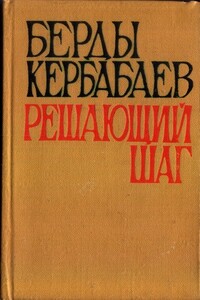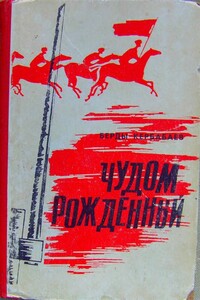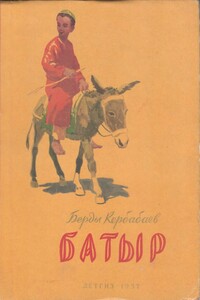— В каком таком отпуске?
— Выйдем-ка, Бостан-эдже. Не то ребят разбудим.
Они выбрались из палатки на воздух. Бостан смотрела на Мухаммеда вопрошающе и нетерпеливо.
— Видишь ли, Бостан-эдже, Аннам долгое время работал без выходных дней, вот я и предоставил ему отгул. Он может не приходить на работу целую неделю. Может, он в аул отправился, а?
Мухаммед лукавил: ему было отлично известно, где находится Аннам, потому что он сам послал его в родной аул. Парень в последнее время был сам не свой, и Мухаммеду хотелось, чтобы он развеялся, отдохнул, навел порядок в доме. И, между прочим, разведал бы, не готовится ли в ауле одна свадьба. До Мухаммеда дошли слухи, что фронтовой его друг, Бабалы Артык, собирается жениться. Сам Бабалы пока помалкивал. Аннам должен был «прощупать» Артыка-ага насчет предстоящей свадьбы, чтобы бригада могла заблаговременно приготовить подарок…
Аннам, уезжая, просил Мухаммеда ничего не говорить матери. Пусть поволнуется за него, может, это ее образумит.
Бостан действительно была сильно взволнована, она пропустила мимо ушей слова Мухаммеда, всхлипнув, принялась бить себя кулаками по лбу:
— Вах, я несчастная! Аннам бросил меня, ушел, совсем ушел!..
— Зачем же ему уходить? — рассудительно произнес Мухаммед. — У него сейчас все в порядке. Работает — любо-дорого глядеть.
— Мухаммед-джан, обидела я его! О аллах, да пропади пропадом вег эти обычаи!
— Какие обычаи, Бостан-эдже?
— Эти… пережитки. Но чем я виновата, Мухаммед-джан? Они достались нам от предков, я впитала их с молоком матери!
— Что же ты их клянешь?
— Вах, это черный ветер, сжигающий цветущие сады! Из-за них Аннам нас покинул!
— Что-то я не могу тебя понять,,
— Сядем, сынок. Я все, все тебе расскажу.
Они пристроились на топчане, и Бостан, которой хотелось излить Душу, повернувшись всем телом к Мухаммеду, спросила:
— Ты замечал что-нибудь за Аннамом и Марал-джан?
— Н-нет, — соврал Мухаммед,
— Что ты будешь делать — они полюбили друг дружку!
Мухаммед сделал круглые глаза:
— Ну да?
— Точно, сынок, точно, Аннам-джан сам мне об этом сказал.
— Так дай бог им счастья!
— Вах! На пути этого счастья встала одна глупая старуха! — Бостан ткйула себя в грудь пальцем: — Это я, Мухаммед-джан!
Тот улыбнулся:
— Разве ты Карачомак*, чтобы становиться между влюбленными?
— Ну, до чего непонятливый! — Бостан ткнула его кулаком в плечо. — Я же сказала: это проклятые обычаи во всем виноваты.
— Ты сказала другое: что сама помешала их счастью. Верно, тебе не по душе Марина?
— Как у тебя язык повернулся сказать такое! Да если бы у меня была невестка, подобная Марал-джан, я бы берегла ее, как золотое кольцо!
— Ага, — понимающе кивнул Мухаммед. — Значит, Марина плохо к тебе относится?
— Да что ты? — На этот раз Бостан ткнула его кулаком в колено. — Дай бог, чтобы тебя все уважали так, как меня Марал-джан. Она за меня и Аннама жизни не пожалела бы.
— Бостан-эдже, ты совсем меня запутала. Марина любит тебя и Аннама, ты и Аннам любите Марину. За чём же дело стало? Приглашай всю бригаду на свадьбу!
— Вай, сынок, легко тебе это говорить. — Бостан вздохнула, а Мухаммед на всякий случай отодвинулся от нее, спасая плечо и колено. — Мы с Марал-джан разного племени, я не понимаю её языка, а она моего.
Глаза Мухаммеда смеялись, но в темноте Бостан не видела этого.
Поднявшись с топчана, бригадир встал перед ней в грозной позе, проговорил, осуждающе покачивая головой:
— А я вот тебя не понимаю, Бостан-эдже! Когда Марина учится у тебя прясть или готовить обед, а ты у нее — вязать свитер, обращаться с радиоприемником, — тут вы находите общий язык. А стоило Марине и Аннаму полюбить друг друга, и она для тебя уже другого племени?
— Да, да, сынок, она ведь не туркменка.
— Ну, а Ленин, по-твоему, какой нации?
— Ленин всем нам родной отец!
— Вот видишь. А он русский. И Марина русская.
Бостан снова вздохнула:
— Понимаю, понимаю, сынок, что ты хочешь сказать. Да я Марал-джан душу свою готова доверить! Вах, но ежели Аннам возьмет ее в жены, то наши аульные сплетницы перемелют их своими языками, как жернова — зерно! Вот чего я боюсь, сынок.
— Сплетни, значит, ты боишься, а сыновье счастье — ни во что не ставишь? Тогда понятно, почему он скрылся. Мыкается, верно, где-нибудь один со своим горем…