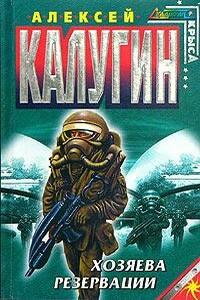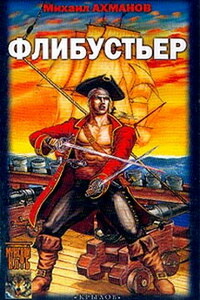– Ничего, Грэм, ничего… Эти ребятишки…
Она прижалась ко мне и заплакала.
Я понял, что больше не в силах откладывать решение. Я был кругом виноват, даже с этой затеей с брачным контрактом: вроде бы возложил на нее ответственность, добавив к ней лишь доводы “contra” и ни единого “pro” [7]. Критиковать неизмеримо легче, чем сделать что-то конструктивное, и орудие критики, увесистый молот и наковальня, требует лишь силы, а не изощренности ума. Не чувства, не любви, не доброты, не готовности к самопожертвованию… Воистину этот молот – самое ужасное из всех орудий, и я использовал его с энтузиазмом неандертальца!
Обняв Шандру, я прошептал:
– Не плачь, милая. У тебя будет ребенок.
– Но, Грэм… Ты же сказал…
– Шшш… – Мой палец коснулся ее губ. – Я знаю, что я сказал. Но ведь наша любовь важнее, чем наш брак, не так ли? Без любви все наши клятвы и обещания – лишь мертвая запись в компьютерных файлах. Ты ведь не хочешь, чтоб так случилось? – Она отчаянно замотала головой. – И я не хочу. Значит… Я рассказал о своих планах, о мире, который я выберу для нее, где ей предстоит вырастить сына и ждать – ждать долгие-долгие годы, пока я не вернусь за ней. Я сказал, что этот мир будет прекрасен, что его обитатели будут похожи на нас и что она ни в чем не испытает недостатка – ни в друзьях, ни в средствах, ни в свободе. Да, и в свободе тоже… Она сама решит, как ей жить и с кем, кому подарить свое сердце или знак мимолетной благосклонности. А потом, когда я вернусь, она улетит со мной – если захочет… И, вспоминая о прошлом, мы будем думать только о нашем сыне, о детях его и внуках; все остальное, все наши слабости и грехи, все, что может случиться в разлуке, будет забыто. Именно так: забыто, а не прощено.
Но если она решит покинуть меня, если тот мир для нее окажется новой родиной и если найдется человек… такой человек, который будет ей дорог… которому она нужна… Что ж, в этом случае я смирюсь и покорюсь ее решению, не стану ее неволить, напоминать о наших клятвах и апеллировать к чувству долга. Мы с ней расстанемся; я улечу и никогда не появлюсь в том мире, чтоб не тревожить ее и не смущать воспоминаниями. Мы постараемся забыть друг друга, и мы…
В этом месте мой монолог был прерван: Шандра вдруг оттолкнула меня, с самым решительным видом вытерла нос и, скрестив ноги, уселась на постели.
– Погоди-ка, Грэм… что-то я не пойму, о чем ты толкуешь… Ты боишься, что я тебя брошу? Но с какой стати? – Она сделала паузу, гневно сверкая глазами. – Ты хочешь найти подходящий мир для нашего сына, ты хочешь, чтоб этот мир сделался его родиной, чтоб он вырос там и возмужал и чтоб я жила с ним, пока ты не вернешься… Вполне разумно, если нет иного выхода. Но почему ты считаешь, что я тебя брошу? Что я подарю кому-то свое сердце или знак благосклонности? – Тут она очень похоже скопировала мою интонацию, продолжая сверлить меня яростным взглядом. – Ты думаешь, что мне необходим другой мужчина? Что я не сумею вытерпеть несколько лет?
– Несколько лет? – мрачно откликнулся я. – Тридцать или сорок, а может, и все пятьдесят! Я не хочу, чтоб ты жила, словно в монастыре… ты в нем уже насиделась, дорогая.
На губах Шандры вдруг промелькнула улыбка.
– Значит, мне не привыкать! Я проведу эти годы в заботах о нашем сыне. И потом, мой новый монастырь будет такой приятный! Такой уютный! Ни сестры Камиллы, ни Серафимы с Эсмеральдой, ни их поучений, ни проклятых котлов… Чего ты боишься, Грэм? Я выдержу! Я обязательно выдержу! И я ведь буяу не одна, а с нашим сыном.
– Первые двадцать лет, – заметил я. – Потом мальчик вырастет и перестанет нуждаться в твоей опеке. Знаешь, как это бывает, – девушки, студенческая компания, работа, женитьба… Он будет жить своей жизнью, вращаться в своих сферах, а ты – ты почувствуешь себя заброшенной и одинокой. Это чувство будет шириться, нарастать, терзать и через десятилетие достигнет апогея. Тут-то мне и надо появиться и увезти тебя! Если кто-то другой не опередит… Шандра призадумалась. Я знал, какие мысли мелькают у нее: она привыкла доверять моим суждениям, и теперь на одной чаше весов лежали мой опыт и дар предвидения, а на другой – ее понятия о верности, ее любовь ко мне, ее неукротимый темперамент. И тридцать или сорок лет разлуки… Внезапно лицо ее прояснилось.