Из вагона Юрий вышел в приподнятом, возбужденном, в удалом каком-то настроении. Все-таки здорово получилось с этим студентом!.. Можно было похвалить себя за находчивость: позор пребывания в третьем классе обернулся готовностью к любым жертвам во имя долга. И все теперь казалось превосходным, замечательным, легко достижимым, все впереди было удивительно ясно. Через час он увидит Николая, тот, конечно, поймет его — и, быть может, завтра жизнь повернется новой, пусть суровой, но прекрасной своей стороной, и гардемарин Ливитин сделается матросом второй статьи, чтобы через полгода год стать мичманом, озаренным боевой славой…
До Южной гавани было не так далеко, и обычно Юрий ходил туда пешком. Но тот изящный, как бы плывущий шаг, которым он любил щеголять и который как нельзя лучше подходил к состоянию его духа, сейчас не получался. Мешала шкатулка: чтобы козырять встречным офицерам, нести её приходилось в левой руке вместе с бушлатом, почему никак не удавалось придерживать пальцами палаш, который то и дело ударял по лодыжке, как бы напоминая, что благородная его сущность несовместима с тасканием громоздких вещей. И едва свернув с площади на улицу, ведущую к Эспланаде, Юрий уже пожалел, что не взял у вокзала таксомотор.
Впрочем, это можно было поправить — достаточно зайти в любой магазин и позвонить по одному из тех номеров телефона, какие уважающий себя морской офицер помнит в любой степени утомленности проворотом и какие язык может пролепетать даже тогда, когда перестает повиноваться. Юрий отлично знал оба эти телефона — чюгу-фэм, чюгу-фэм и шютти-фэм, шютти-фэм[46], по которым ему не раз приходилось говорить одну из немногих знакомых шведских фраз: «Варшогу, шикка эн отомобиль, Мюндгатан шю… Такк со мюккет!»[47]
Палаш напоминающе стукнул по лодыжке, и Юрий, молча ругнувшись, покорился: придется все же вызывать таксомотор, расход не так уж велик. Он толкнул первую попавшуюся под руку зеркальную дверь и вошел в небольшой магазин.
Терпкий и приятный запах хорошо выделанной добротной кожи встретил его. На полках выстроились чемоданы — желтые, коричневые, слепящие черным лаком, кожаные и фибровые, опоясанные ремнями или блистающие оковкой, громадные и крохотные, пузатые и плоские. Ниже грудой лежали дамские сумочки, портфели, несессеры, бумажники. Миловидная льноволосая фрекен скучающе смотрела, как два армейских подпоручика — один розовый, как девушка, другой усатый не по возрасту — выбирали несессеры, рассматривая сверкающие флаконы, мыльницы, бритвенники. Юрий небрежно, вполоборота отдал честь, и оба в ответ враз откозырнули, щелкнув при этом каблуками девственно блистающих сапог. Новенькая, еще не освоенная офицерская форма, почти голые, по-юнкерски стриженные затылки под необмятыми фуражками, преувеличенная выправка, щелканье каблуками — конечно же, это были только что произведенные павлоны того самого царского выпуска, о котором рассказывал Пахомов. Воевать прибыли! Куда? В Финляндию, где на суше никаких сражений и быть не может! И сразу кинулись покупать несессеры… Юрий покосился на прилавок и чуть усмехнулся.
Но и павлоны не остались в долгу. Тот, что с усами, негромко сказал что-то другому, и оба насмешливо посмотрели на обвязанную линем шкатулку. Юрий вспыхнул. Он вдруг увидел себя со стороны, их глазами: блестящий гардемарин неловко тащит в руке ящик, обмотанный бечевкой (чем, несомненно, был в их представлении превосходный шестипрядный линь, отбеленный и мягкий, которым морской глаз мог только любоваться).
Уязвленное самолюбие мгновенно затуманило ему Голову, и, вместо того чтобы спросить, где здесь телефон, он поставил шкатулку на прилавок, обвел глазами полки и еще раз поднес руку к фуражке.
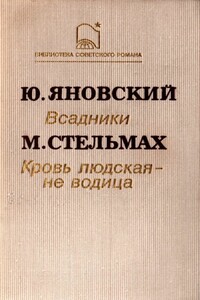
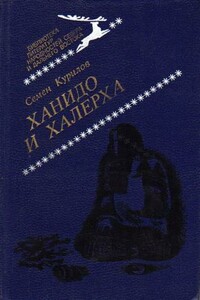
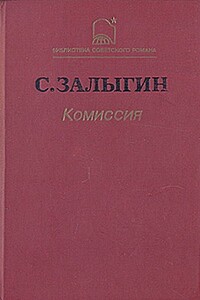







![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
