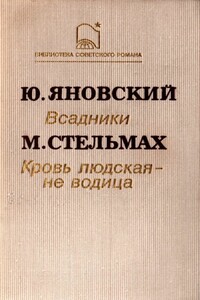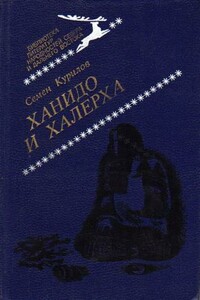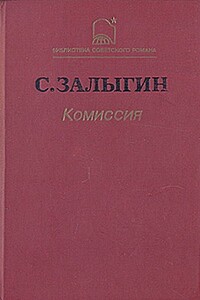Письмо Эйдемиллера и газета «За народ» хранились Тюльманковым в месте, где их никто не мог обнаружить: в специальном кармане малого парусинового чемодана, искусно пришитом внутри так, что он никогда не бросался в глаза при еженедельных осмотрах. Наличие писем и газеты показывало, что вещи его тщательно, с кропотливым ощупыванием каждой складки, были обысканы. События грозно нарастали, и непонятное распоряжение переодеть его в береговое платье открыло свой жуткий смысл: охранка.
Он оглянулся испуганно и затравленно. Матросы караула равнодушно стояли и сидели в привычных позах вынужденного безделья, и никто не понимал обличительного и страшного значения писем и газеты, которыми мичман нервно похлопывал по ладони. Никто, кроме разве Волкового, который не раз читал письма Эйдемиллера и самую газету. Но и он упорно отводил глаза, очевидно, боясь выдать свое понимание.
Нервная тошнотная тоска охватила Тюльманкова. Завыть, закричать, броситься на Гудкова или вырвать из рук Хлебникова винтовку и выстрелить в Гудкова, потом в Кунцевича, — что-то нужно было немедленно сделать, пока он еще здесь, где матросы, а не жандармы, пока есть еще крупица надежды, что его поддержат… Волковой поддержит первый. Потом еще кто-нибудь из караула, хоть двое, трое… этого же достаточно! Остальные не будут стрелять в своих… Потом выбежать на палубу, стреляя в офицеров, призывая к восстанию… Тюльманков повел вокруг почти безумными глазами, и Хлебников тотчас придвинулся к нему вплотную.
— Но-но, не дури, — сказал он испуганно. — Вашскородь, дозвольте связать, ишь, кулаки-то…
И тогда все посмотрели на руки Тюльманкова. Кулаки действительно были сжаты так, что напружились большие синие жилы. Волковой тоже подошел к нему вплотную и подтолкнул его вперед.
— Иди… ты… — буркнул он мрачно, и в этой интонации Тюльманков услышал бесповоротное осуждение и окончательно убедился, что и Волковой не поддержит его, если он сейчас кинется на офицеров. Он криво усмехнулся и хотел что-то сказать, но Волковой грубо толкнул его к трапу. Мичман Гудков отступил, давая им дорогу, и так — Хлебников впереди и Волковой сзади — они поднялись по трапу наверх.
Восемнадцатый кубрик был совершенно пустой, все люди работали — кто на мачте, кто на погрузке снарядов. Рундук Тюльманкова оказался беспощадно перерытым сверху донизу, и, когда Тюльманков, едва различая вещи в наплывавшем в глазах тумане, полез в малый чемодан за чистой форменкой, пальцы его запутались в отпоротом кармане чемодана. Ловок мичманок! Не хуже жандарма, нюхом берет! Тюльманков выпрямился и встретился с тяжелым взглядом Волкового, стоявшего совсем рядом. Хлебников в стороне деловито рылся в большом чемодане, доставая черные брюки, и поэтому Тюльманков смог наконец шепнуть то, что кипело внутри:
— Продаешь, Волковой?.. Как весной — кочегаров?.. Та-актика!..
Волковой с открытой ненавистью смотрел на него маленькими своими хмурыми глазами.
— Молчи, — шепнул он в ответ, едва шевеля губами, — анархия задрипанная! Добился обыска? Из-за ерунды организацию проваливаешь, сволочь… Хоть в охранке-то не глупи… помолчи…
Хлебников швырнул штаны, и они упали на плечо Тюльманкову.
— Не проедайся тут, жив-ва! Надевай барахло, нечего чикаться, не на свадьбу!
И опять — Хлебников впереди и Волковой сзади — они вышли на верхнюю палубу. Горнист только что сыграл отбой, и тяжело дышащие люди сидели там, где их застал этот сигнал, — на не донесенной до горловины угольной корзине, на беседках, спускающихся в баржи, на кучах угля — и торопливо курили, пользуясь пятиминутным перерывом утомительной погрузки. Никто не понимал, почему и куда ведут со штыками Тюльманкова, и его провожали равнодушным взглядом. Отчаяние овладело им, — отчаяние, жалость к самому себе и ясное ощущение, что никогда больше он не увидит этих людей, матросов «Генералиссимуса», за которых он идет сейчас в охранку, а оттуда в тюрьму или на каторгу… Товарищей, за которых он боролся четыре года, с которыми вместе он должен был поднять на место андреевского флага — красный… Матросы! Это были матросы, умевшие овладеть «Потемкиным», умевшие умирать на «Очакове», матросы Свеаборга и «Памяти Азова»… Чего же они сидят на угле, измученные погрузкой, сидят на палубе корабля, осуждённого царем на близкую гибель в бессмысленной, ненужной народу войне, — сидят и молчат, вместо того чтобы действовать — так, как они умели действовать в девятьсот пятом году?.. Безумные и яркие мысли побежали в мозгу по старым следам, оставленным роем фантастических планов, рождённых там, в карцере, — и Тюльманков потерял над собой власть.