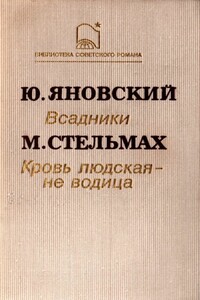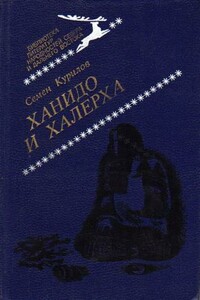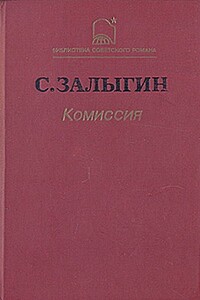И за все то время, пока дожидались в приемной, не удалось перекинуться ни одним словом: рядом торчал Хлебников, а у двери — жандарм. Тюльманков стоял неподвижно, только в вырезе форменки прыгала жила на шее, доказывая, как бешено бьется у него сердце. Раза два-три он подымал глаза и ненавидящим взглядом смотрел на дверь, где скрылся ротмистр, а однажды таким же взглядом хлестнул и Волкового. Но никак нельзя было объяснить, что винить ему надо не Волкового и не матросов «Генералиссимуса», а совсем других — тех, кто годами приучал его к мысли, что революционер — это прежде всего бесстрашный герой; тех, кто посылал таких же Тюльманковых убивать одного прокурора, чтобы другой, его заменивший, присуждал их к повешению; тех, кто учил, что революция — это борьба отдельных людей с отдельными людьми. Ничего этого сказать тут было нельзя.
Однако все же, воспользовавшись тем, что жандарм у двери отвернулся, Волковой, неловко вывернув ладонь опущенной по шву брюк левой руки, нащупал пальцы Тюльманкова и крепко их сжал. Тот вздрогнул, как от удара. Волковой, испугавшись, что заметят, тут же выпустил пальцы, но Тюльманков, как бы отвечая на пожатье, вдруг громко и зло сказал: «Ну, чего там волынят! Скорей бы, все равно ведь ничего не скажу!» Хлебников засуетился, а жандарм неторопливо обернулся и лениво пригрозил: «Ты вот сейчас помолчи, а то недолго и рот заткнуть». Но тут где-то мягко прозвенел звонок, в приемную вошли еще два жандарма, а из кабинета вышел мичман Гудков. Раскрасневшийся, озабоченный, он сказал Хлебникову, подняв на лоб брови: «Сдай арестованного, расписку дадут, на корабле мне отдашь», — и Тюльманков исчез за дверью, быть может, навсегда…
Волковому было отлично известно, что бывает за такими дверьми. В девятьсот четвертом его вместе с отцом, мастером железнодорожного депо, забрали в жандармское, найдя дома при обыске пачку прокламаций. Сперва лаской, потом угрозами у отца долго допытывались, откуда у него прокламации, потом ударили в пах, а когда он очнулся и повторил: «Не знаю», — двинулись к нему, Сеньке. Все внутри у него затомилось в ожидании такого же удара. Но тут он услышал, как отец прохрипел: «Парнишку-то не мучьте, что он понимает…» — и его осеняло. Он отчаянно, в дурной голос, заревел и стал кричать, что сверток украл в депо, в инструментальной, польстившись на бумагу — клеить змея, но дома разобрался, что бумага жидка и рвется, кинул в сенях и забыл о ней. И хотя его самого не били, жандармы навсегда остались в памяти томительным предчувствием удара ногой в пах.
Из ненависти к ним Сенька добился, что, несмотря на неполных шестнадцать лет, его приняли в боевую дружину. Как только дело касалось жандармов, он напрашивался там на самые рискованные дела. Его не разорвало бомбой в августе девятьсот пятого только потому, что бумажку с роковой надписью «исполнитель» вынул из кожаной шапки тот, кто подошел к столу перед ним.
С тех пор сквозь его случайно уцелевшую жизнь прошли годы, книги и люди, и революция стала перед ним совсем в ином свете. На «Генералиссимус» Волковой пришел уже с явкой петербургского комитета социал-демократической партии большевиков к вовсе неизвестному ему гальванеру четвертой башни Федору Кудрину. Они оказались в одной роте, в одной башне.
В одном кубрике, и всю первую ночь насквозь Волковой прошептался с новым знакомцем. Кудрин сразу же оценил решительность и вместе с тем осторожность Волкового, к чему того приучила подпольная работа в саратовском депо, которую прервал призыв на флот. Позже они сошлись ближе, потом сдружились — немногословно и крепко, ничем, впрочем, не выказывая на людях своей внутренней спайки. И сейчас именно Федора Кудрина — друга, братка, кореша — по флотскому словарю, — умницы, большевика, организатора — по словарю партийному, — именно Кудрина не хватало Волковому, чтобы не поддаться чувству острой жалости к Тюльманкову и не наделать вдобавок каких-нибудь похожих глупостей самому.
«Генералиссимус» был уже близко. Горны на мачте потухли, черная громада корабля, отмеченная неяркими точками ламп над баржами, как будто осела в воду. Катер, качнувшись, повернул к трапу. Сияние далеких гельсингфорсских огней побежало вправо, а слева ударил в глаза длинный голубой луч прожектора с миноносца, дежурившего у выхода с рейда, пошнырял по воде и бесшумно переметнулся в море. Охрана. Наверное, на «Генералиссимусе» тоже сыграли отражение минной атаки и к орудиям стала на ночь дежурная смена…