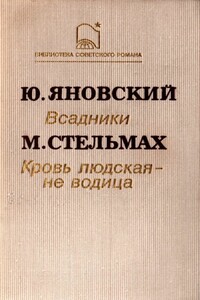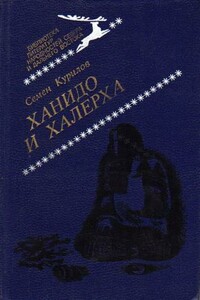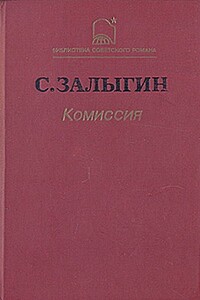Тишенинов улыбнулся через силу и взялся за поставленный Федосьей стакан чаю.
— Заболел, должно быть. Ничего не хочется. Вот пить — самовар бы выпил.
Кудрин сожалеюще покачал головой:
— Удивляюсь я вам, Егор Саныч. Не с вашим здоровьем в подполье лазать… Вам когда ученье кончать?
— А я и не кончу, — сказал Тишенинов, дуя на чай. — Не дадут. Вышибут, вероятно. Да и к чему кончать? Чтобы народ грабить на казенном месте?
— Вот я на это и удивляюсь, — сказал Кудрин раздумчиво. — Жизнь ваша, конечно, небогатая, но все же соответствовать может, не наша рабочая жизнь. Нам что? Нам один в жизни курс, либо голодать, либо драться. А вам вполне возможности имеются: перемучаетесь сколько там у вас положено, пять или шесть годиков, — и в люди вышли… А вы с нами идете. Неизвестно еще, чего с этой революции выйдет, а свою жизнь портите! Непонятно…
Тишенинов улыбнулся: Кудрин любил разговаривать на философские темы. Идейность? Действительно, что можно было о ней сказать?
— Очень вы в корень любите смотреть, Федор Гаврилыч, — ответил он, тяжело ворочая языком. — Это хорошо, что везде материальную причину ищете, это правильно. Только оставьте хоть что-нибудь на долю сознания человеческого. Человек тем от животного и отличается, что способен мыслить отвлеченно, порой самого себя забывая. Можно ведь и чужую беду умом так понять, что она больше своей казаться будет. А перед нами история, Федор Гаврилыч, и в ней сквозная — на все века — несправедливость, порабощение богачами бедняков. Вот и пойдешь на борьбу и других за собой будешь звать, чтобы всем лучше было… Это трудно рассказать. Может — семейное. Отец у меня, я вам говорил, шесть лет в ссылке провел, народником был… Я в ссылке и родился, так сказать, потомственный революционер.
— А отец ваш потом кем служил, зарабатывал-то хорошо? — неожиданно спросил Кудрин.
— Чиновником в почтовом ведомстве, восемьдесят рублей получал.
— Вот то-то и оно! — усмехнулся Кудрин торжествующе. — Отсюдова и революционность в вас сидит. А получал бы он триста — ходили бы вы теперь в меньшевиках. Я про это и допытывался.
Тишенинов рассмеялся.
— Уж очень это просто у вас выходит, Федор Гаврилович, — сказал он, разминая катышек сероватого хлеба. — Вроде какого-то прогрессивного налога: до ста рублей в месяц — большевик, со ста до трехсот — меньшевик, с трехсот до четырехсот — либерал, а с шестисот — октябрист… Так, что ли?
— Да нет, — отмахнулся Кудрин. — Вы слушайте, я верно говорю. Нашу жизнь надо опытом понять. Как это Маркс писал: «нечего терять, кроме цепей», — а коли этих цепей на себе не носите, обязательно уловочку найдете, оправдание такое вот той несправедливости, что вы поминали. Материальная база — она все, Егор Саныч, на ней весь мир стоит, и с нее все концы искать надо… Я вот вам, скажем, доверяю, а иному интеллигенту, хоть он в доску при мне расшибись, ни на сколько не поверю: сдаст. В серьезный момент сдрейфит, будьте покойны! От них, вот от таких, меньшевики и плодятся: «мы да вы, да мы вместе», — слов хоть пруд пруди, а на деле — фига: шалтай-болтай, зюд-вест и каменные пули… Вот в пятницу, когда бой у нас на Путиловском вышел, выступил на сходке такой. Нелегальщик, под слежкой. Ну, конечно, — в хлопки. Все будто правильно: и бакинцев приветствует, и за стачку солидарности говорит, а до лозунга дошел — стоп машина, меньшевистские позывные за полторы мили видать: «Выдвигайте экономические требования вместе с бакинцами: первое, чтоб восьмичасовой, второе, чтоб квартиры», и так далее и тому прочее… Откричал свое — и слазит. Тут я его и прихлопнул. Что ж, говорю, нам подсовывают, товарищи! Волынку подсовывают? Против кого он нас, товарищи, зовет? Против фабрикантов он нас зовет. А разве мы не знаем, кто за фабрикантами стоит? Правительство стоит, царская ненавистная власть. А можем мы, говорю фабриканта рифовым узлом скрутить, если правительство останется с полицией да с казаками? Не можем, говорю. Надо, говорю, товарищи, в корень бить, а корень в Зимнем дворце сидит. Корень вырвем — и дерево свалим…
Кудрин даже встал с окошка.