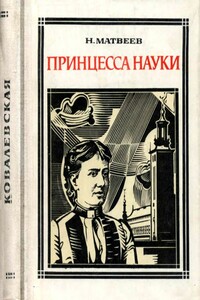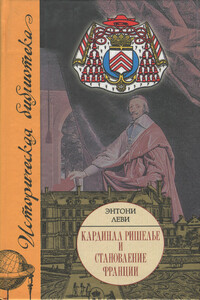В Риме же, в Капитолийских музеях, мы встречаем Августа, величественнейшего, ещё довольно молодого, увенчанного миртом. Чудесная работа из идеально отполированного мрамора выражает преднамеренную, расчётливую снисходительность. Его рот закрыт, но губы не сжаты; твёрдость видна только в подчёркнутой складке на подбородке. Позируя, он, видимо, над чем-то задумался, и художник ощутил в этом отстранённость императора. В его высоко поднятой голове чувствуется недоверчивая и высокомерная сдержанность человека, строившего дальновидные и для своего времени глобальные планы. Морщины меж бровей выражают сосредоточенность, и под кожей видно постоянное напряжение мускулов.
От безжалостной и долго прожившей Ливии, Новерки, которая расчистила путь к власти своему сыну Тиберию, осталось изображение заострённого лица со сжатыми губами, с некрасивой, жёсткой, плотной причёской. Её глаза смотрят невидящим взглядом, как будто она погружена в какие-то размышления.
Но потом мы снова встречаемся с лицом Агриппины, необыкновенно прекрасным. Она причёсана не так, как все известные женщины этой фамилии: спереди её волосы мягко разделены на две пряди, прикрывающие высокий, почти мужской лоб. У неё прямые ресницы и глубоко посаженные глаза, как и у её сына Гая Цезаря; на боках и на затылке вьющиеся волосы мягко уложены, а некоторые пряди волнами ниспадают на плечи. Напряжённый рот хорошо очерчен, и его можно было бы назвать страстным, если бы не сильная, волевая линия подбородка. Она кажется ещё молодой, но, возможно, не имеет возраста после смерти, потому что сквозь мрамор просвечивает усталость в морщинках на щеках. Она подалась вперёд и смотрит так, будто после стольких лет, забыв ненависть, всё же что-то обличает.
О тех днях, когда многие из описанных здесь событий ещё не наступили, о днях победоносной славы напоминают мраморные панели Ara Pacis Augustae (памятник Августовскому миру) в Риме: в ритуальной процессии, одновременно семейной и разнородной, идут Август и Ливия, сенаторы и жрецы, ещё юный Германик и флотоводец Агриппа, который вскоре умрёт. Его маленький сын Луций, которому суждено умереть в устье Родана (ныне эта река называется Роной), ухватился за тогу, в то время как Антония гладит его по голове. А дальше с улыбкой следует ещё юная Юлия. За спиной у неё шествует Тиберий, такой же, как на портретах времён своего императорства. Все чинно идут с одной плиты на другую в мягкой белизне мрамора.
V IMPERIUM NOVUM. НОВАЯ ИМПЕРИЯ
Память о матери. Молодой император, собственноручно принёсший в Рим прах матери, возбудил в народе сильнейшие эмоции. Археология — мемориальные доски, надписи, монеты — даёт более беспристрастные свидетельства, чем историки: многие города воздвигли преследуемому семейству кенотафы и монументы, такие, как найденный в Бергоме (ныне Бергамо) мемориал Друза или кенотаф с великолепными мраморными скульптурными портретами, возведённый на острове Пантеллерия, где позже кто-то спас его от разрушения, спрятав под керамические плиты. Или прекрасная статуя Агриппины, которую нашла в древней Веллее близ Пьяченцы и поместила в свой музей Мария Луиза Австрийская, жена Наполеона.
Но самые сильные чувства в связи с этой историей вызывает археологическая находка, представляющая собой пустой внутри мраморный куб. Он принадлежал погребальному памятнику Агриппины, и в нём содержалась урна с её прахом, о чём была сделана надпись, несомненно продиктованная сыном-императором. Наверху чрезмерно крупно, что придаёт особый драматизм, высечено одно слово «КОСТИ» — то есть всё, что осталось от перенёсшей несправедливые страдания и умершей от голода женщины, а дальше упоминаются все её императорские родственные связи, включая сына, который прижимал этот груз к груди: «Агриппины, дочери Агриппы, внучки божественного Августа, жены Германика, матери принцепса Гая Цезаря Августа Германика». Ничего больше ни о приговоре, ни об убийстве, ни о том, как она умерла. Половина внутреннего пространства урны оставалась пустой. Через века, когда мавзолей был разграблен и опустошён, этот мраморный контейнер с необычной надписью надолго переехал в Рим. В XIV веке его внутреннее пространство расширили и использовали как меру для зерна на рынке. Никто уже не понимал древней надписи, и никому до неё не было дела: все постепенно забывали и латынь, и историю. В конце концов эта мраморная урна нашла своё место в Капитолийском музее.