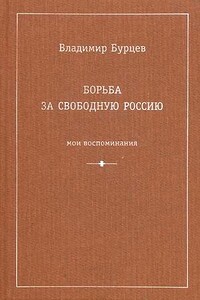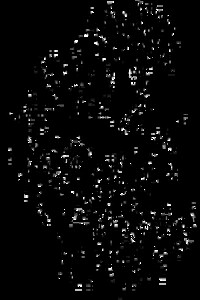Мой защитник Карабчевский весьма метко выразился, что мне пришлось пробираться сквозь стену охраны, прибавляю - с риском в любой момент получить неосторожный толчок и взлететь преждевременно на воздух.
Известно, что я шел от Варшавского вокзала навстречу Плеве: карету министра я заметил очень далеко, шагов за 70 или дальше, об ее приближении я мог бы судить раньше по той ажитации, которая началась в этот момент среди полиции и агентов. Карета летела стрелой. Как раз посредине, между каретой и мной, на самом месте роковой встречи, остановилась конка. Мне пришлось убавить шагу, чтобы дать время конке уехать или карете приблизиться; это-то замедление шага, вероятно, и обратило на меня внимание некоторых свидетелей, утверждавших потом, что они "заметили" меня. Я очень хорошо ориентировался в окружающем: заметил, что на тротуаре нейтральной публики было не более обыкновенного, т. е. немного. Около тротуара изредка стояли извозчики, на месте встречи как раз их не было. На мое счастье, и конка тронулась, место очистилось. Да и пора было. Карета приближалась с быстротой стрелы. Уже я ясно рассмотрел лицо кучера, а сквозь стекла кареты его лицо. Он ехал, развалившись, откинувшись, по своей обычной манере, на спинку сиденья, как будто прячась.
Уже оставался интервал шагов в двадцать. Быстро, но не бегом, пошел я навстречу, наперерез карете с целью как можно ближе подойти к ней. Уже я подошел к ней почти вплотную, по крайней мере, мне так показалось. Я увидел, как Плеве быстро переменил положение, наклонился и прилип к стеклу. Мой взгляд встретился с его широко раскрытыми глазами. Медлить было нельзя. Наконец-то, мы встретились! Я был убежден в успехе и не знал, что происходит за спиной у меня: может быть, меня уже ловят, может быть, Плеве кричит или выскочил из кареты на противоположную сторону. Карета почти поравнялась со мной. Я плавно раскачал бомбу и бросил, целясь прямо, в стекло...
Что затем произошло, я не видел, не слышал - все исчезло из моего сознания. Но уже в следующий момент сознание {191} вернулось. Я лежал на мостовой. Первая мысль - это удивление, что я жив еще. Я встрепенулся, чтобы подняться, но не почувствовал тела: как будто, кроме мысли, у меня ничего не осталось. Мне страстно хотелось узнать о последствиях; кое-как приподнялся на локоть и огляделся. Сквозь туман я увидел валявшуюся красную шинель и еще что-то, но ни кареты, ни лошадей. По показаниям свидетелей, я крикнул: "Да здравствует свобода!" Не зная, насколько тяжело я ранен, я почувствовал желание не даваться живым, но бессильным врагу. "Буду бредить,-подумалось мне:-лучше харакири по образцу японца, чем гнусные руки жандармов".
Я пытался достать из кармана тужурки приготовленный для отпора револьвер, но руки не повиновались мне. А между тем на мой крик подбежал агент-велосипедист, всегда сопровождавши карету Плеве, он упал на меня и придавил меня телом... и началась обычная в таких случаях сцена. Гартман (велосипедист) первый начал меня бить. На суде он сам живописно изобразил, как он меня бил: "Сначала я ударил по правой щеке", докладывал он и в то же время жестом пока зал процедуру заушения: "а затем ударил по левой щеке". На крик Гартмана; "Вот вам преступник! - подбежал какой-то полицейский чин и стал кричать:
"с. с., чуть и меня не убил".
Подбежали еще и другие и били меня - кто как хотел: кулаками, пинками, в лицо, в голову, в бока, топтали меня. Но я не чувствовал ни боли, ни обид, мне было все равно, - в блаженстве победы и спокойствии приближающейся смерти потонуло все. Было одно противно, когда стали плевать в лицо: какая-то красная, остервеневшая от животной злобы рожа склонилась надо мной и звучно, смачно харкнула мне в лицо. Кричали: "Где еще бомба"? Мне казалось излишним, если бы мой револьвер выстрелил при встрепке и кого-нибудь нечаянно ранил, и я сказать: "Отстаньте! Бомбы нет, возьми из кармана револьвер!"
Свидетели-агенты старались уверить, что я сопротивлялся, не хотел даваться в руки и отдать револьвер. Их счастье, что это было не так; я был чересчур слаб, чтобы думать о бегстве или сопротивлении. Велосипедист Гартман первоначально утверждал, что он хотел сделаться спасителем трона и отечества; будто он, катясь сзади кареты, еще издали заметил, как я выскочил из подъезда Варшавской гостиницы, и, сразу сообразив, в чем дело; направил свой велосипед прямо на меня, сбил меня с {192} ног и, таким образом, очутился на мне. Остроумно!