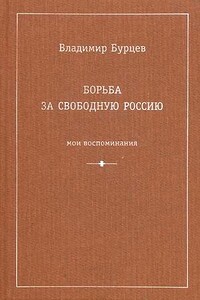На допросе держал себя гордо и вызывающе, неизменно шутя и смеясь, порою презрительно издеваясь над теми, в чьей полной власти он оказался. Таким же, неизменно счастливым и уверенным явился он на суд и речь свою начал гордым заявлением; "Я не признаю вашего права судить меня, я не подсудимый, я ваш пленник. Я - один из народных мстителей, социалист и революционер.
{100} Судить нас может только сама эта великомученица истории Россия. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов, Я жалею лишь о том, что у меня не тысячи жизней - я все их отдал бы". "Мое предприятие закончилось успехом, - говорил он в заключении. - И таким же успехом увенчается, несмотря на все препятствия, и деятельность всей партии, ставящей себе великие исторические задачи. Я твердо верю в это, и я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием исполненного долга". Отвергнув все искушения и предложения властей, он пишет матери перед смертью: "...пусть же ваше горе потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа".
Выслушав приговор, он сказал: "Я счастлив вашим приговором; надеюсь, что вы решитесь исполнить его надо мною так же открыто и всенародно, как и я исполнил приговор партии социалистов-революционеров". Но за твердою нравственною бронею борца в Каляеве сказывалась чуткая и сложная душа поэта, восприимчивая ко всему прекрасному, нежная и чистая, как у ребенка. Он всегда производил впечатление человека "не от мира сего". В серой, обыденной действительности, в мире повседневной жизни он казался каким-то случайным гостем. И тот шутливый юмор, с которым он относился к себе и к окружающему, казалось, должен был скрадывать то режущее противоречие, в котором находился этот порывистый мечтатель ко всему обыденному, ежедневному...
Он вырос в Варшаве в бедной семье. Отец его был крестьянин, бывший дворовый, впоследствии унтер-офицер и околоточный надзиратель, не смотря на полицейский мундир, сохранивший честность и передавший сыну ненависть к ужасам крепостничества, твердость характера, выносливость. Мать его была полька из разорившейся польской шляхетской семьи. Ей он обязан своей впечатлительностью, любовью к прекрасному, художественной восприимчивостью своей души и той мечтательностью, о которой он говорит в одном из своих стихотворений:
"Мечтательный ум мне природа дала,
Отвагу и пыл к порыванью,
Ах, ненависть в сердце так жизнь разожгла
И чуткость внушила к страданью".
Именно эта чуткость к страданью толкнула его на путь революции, и только условия русской жизни сумели пробудить в {101} его душе ненависть, которая по существу была чужда его мягкой душе, прекрасной, как гармоничный аккорд. В 1887 г. он окончил Апухтинскую гимназию, известную своим ультра-черносотенным духом; из нее он вынес уже окрепшую ненависть к существующему строю. Живя в Москве, слушая лекции на истор. филологическом факультете, он писал в газетах, переводил, давал уроки, спасаясь этим от нищеты. К революционному движению пока не примыкал, стараясь разобраться в захватившем тогда всю молодежь марксизме.
В это время он принимает участие в студенческом движении, попадает в тюрьму, а затем отдается активной революционной работе в рядах соц. демократии. Но остаться марксистом он долго не мог. Его мятежный дух не мог ужиться в рамках узкой марксистской догмы, тогда переживавшей стадию умеренного "экономизма". Одно время он увлекается "Искрой", которая, как ему казалось, пролагает для с.- д.-зма новые, более широкие пути; но это увлечение скоро сменяется разочарованием. Его революционная и пылкая натура жаждала боевого размаха, жаждала счастья борьбы. Он становится в ряды партии социалистов-революционеров. Деятельность террориста дала ему то, чего жаждала "мятежность" его духа, но и в террористической деятельности он остался тем же нежным и задумчивым, с тем же мечтательным умом романтика и символиста и с чуткой, детски-чистой душой. Лучше всего характеризует его следующий факт.
Он мог убить великого князя еще 2-го февраля, когда тот проезжал в театр вместе со своей женой и детьми одного из великих князей. Каляев уже подбежал к карете со снарядом в руке, уже сделал полувзмах, - но рука его опустилась - он увидел двух детей и женщину... Он не бросил снаряда, хотя под защитой вечерней темноты мог бы легко скрыться на безлюдной Воскресенской площади и, хотя рисковал упустить совершенно случай добраться до великого князя... Подобным же образом и 4-го числа он имел возможность с равным успехом, но с большими шансами на побег, бросить бомбу на Тверской улице - но там могли быть лишние случайные жертвы. Он менее всего думал о спасении своей жизни, он скорее мечтал отдать ее, скрепить собственной смертью свое дело: