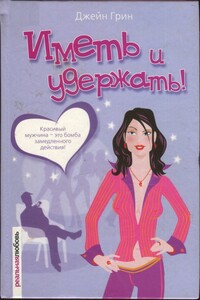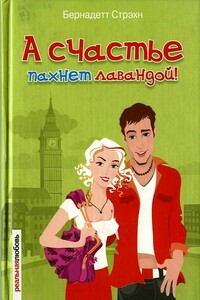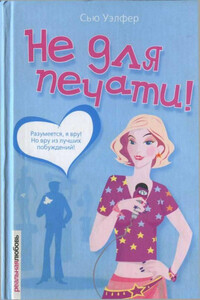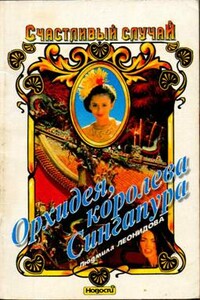— Ах, мама, — говорю я и начинаю плакать.
Этих вещей так мало… Есть в этом что-то жалкое: их слишком мало, чтобы дать представление о таком важном периоде чьей-то жизни. Только несколько вещей.
— О чем ты плачешь? — шепчет она.
— Ни о чем, — отвечаю я и вытираю кулаком рассопливившийся нос. — Кое о чем. Неважно.
Она не спрашивает, что я имею в виду.
— Пошли вниз, — говорит она. — Ты замерзнешь.
Я отрицательно трясу головой.
— Я хочу забрать флаконы.
— Я разрешила тебе их взять? — удивленно спрашивает она.
— Да. Но я беру их не для себя.
Она прижимает к груди желтое платье и босоножки. Карточка исчезла, но, даже будучи спрятанной в квадратном накладном кармане маминого домашнего халата, она все равно стоит у нас обеих перед глазами.
— Что мне с этим делать? — спрашивает она.
Я пододвигаю коробку с надписью «Детская одежда Джины». Срываю ленту, склеивавшую отвороты коробки, и вываливаю детские вещи на пол.
— Клади сюда, — говорю я, подавая коробку маме.
Она складывает желтое клетчатое платье и кладет его в коробку на белые босоножки. Я не спрашиваю, положила ли она туда фотографию, просто закрываю картонные отвороты и кладу коробку поверх других.
— Надо было отдать и это в благотворительный центр, — говорит мама, глядя сверху вниз на груду детских слюнявчиков и носочков. — Не понимаю, почему я все это храню.
Зато я понимаю, но сейчас кажется лишним и бесполезным говорить что-то вроде «Ты их хранишь, чтобы сделать мне больно, мама. Сделать больно за то, что я оставила тебя. За то, что я уехала, хотя надо было уехать тебе».
Все это и так понятно.
— Пошли вниз, — опять говорит она. И с ловкостью жонглера балансируя коробкой с флаконами, я иду за ней вниз по ступеням, а потом в кухню, где рассвет окрашивает запыленное сероватое окно.
— Я тебя ненавижу! — закричала я в серый рассвет. Затем выбежала, не придержав внешнюю дверь с сеткой, и она хлопнула за моей спиной, когда я уже бежала по проходу, мимо птичьих кормушек, через ворота в частоколе забора — он был покрыт свежим слоем белил — к своей машине, стоившей мне половину всех скопленных денег.
— Вернись сейчас же, — кричала мне мама с парадного крыльца. — Куда это ты собралась?
Я не ответила. Забросила в машину сумку — небольшую, такую, куда вошли только самые необходимые вещи, такие как фотографии и журналы, и игрушечный мишка, и письмо с уведомлением о приеме в университет Чикаго. Забросила сумку на заднее сиденье и завела мотор. Мама выскочила из открытых ворот как раз в тот момент, когда я отъезжала от обочины.
И пока я ехала по знакомой дороге, протянувшейся вдоль железнодорожных путей, руки у меня тряслись. Я подъехала к дому Джоны, но не выключила мотор, потому что не знала, смогу ли снова его запустить. Мне было бы наплевать, если бы он заглох в миле от Хоува, но я бы не вынесла, если бы он отказал прежде, чем я смогу пересечь невидимую границу.
Я кинула в окно Джоны пригоршню гравия. Тридцать секунд спустя он открыл переднюю дверь и вышел ко мне. Скрестив руки, он оперся о перила и широко мне улыбнулся.
— Этот кусок дерьма, который так тут навонял, твой? — спросил Джона.
Я рассмеялась.
— Да.
— Знаешь, масло проходит в такую маленькую дырочку под капотом, — сказал он, жестами показывая, как это происходит. — А в бензобак наливают бензин. Это тебе не двухтактная газонокосилка.
— Ты едешь? — спросила я.
— Куда?
— В Чикаго. Или туда, где эта газонокосилка решит сломаться.
— Прямо сейчас?
Я кивнула. Он опять рассмеялся.
— Подожди. — Он открыл дверь и вошел внутрь тихого, спящего дома.
Спустя пять минут он уже бросил свою сумку на заднее сиденье рядом с моей.
А я узнала, как это — стоять перед несущимся на тебя товарным поездом, расставив руки, чтобы обнять весь мир — и жизнь, и смерть, и все-все, что еще немного — и собьет тебя с ног. А может, и не собьет.
Джонз позвонил своим с заправочной станции в семидесяти пяти милях от Хоува.
Я своим так и не позвонила.
С ловкостью жонглера балансируя коробкой с флаконами, я иду за мамой вниз по ступеням, а потом в кухню, где рассвет окрашивает запыленное сероватое окно.
— Я сварю кофе, — говорит она.