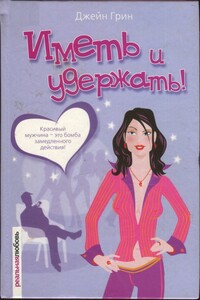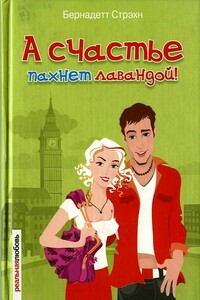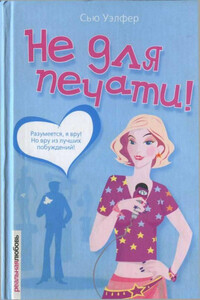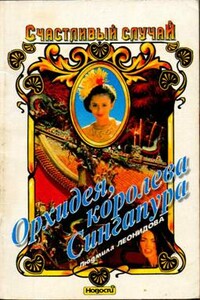— Понятия не имею, — отвечаю я.
Наступает тишина. Только шуршит милая записочка от Дженет, которую Индия скатывает в комочек. Такое впечатление, что возбужденная предводительница команды болельщиц помахала у меня перед носом своими помпонами.
— Ты уверена насчет денег? — спрашивает Индия. — Я бы могла…
— Со мной все будет в порядке, — отвечаю я. Пробы ради я посылаю улыбку своему отражению в стекле, чтобы узнать, удастся ли придать моему голосу приятное звучание, прикрыв улыбкой всю ту кашу, которая у меня на душе. «Улыбка на лице — и на душе радостнее…» — Жаль, у меня при себе нет губной гармошки и кружки. Ты бы послушала и не сомневалась.
— Ну что же, — отвечает Индия. — Я буду их беречь. На тот случай, если ты пойдешь просить милостыню, когда приедешь.
Повесив трубку, я представляю себе картину: я сижу в среднестатистическом городе на среднестатистическом тротуаре, в одной руке держа кружку, а другой играя на губной гармошке. Звук гармошки напоминает сирену товарного поезда, надо только прислушаться. Я облокачиваюсь на раковину и думаю: на какой гармошке я бы играла? На деревянной? На китайской фарфоровой? И смогла бы музыка товарного поезда унести меня на своих крыльях? За окном голодные птицы подбирают насыпанное мною зерно и набирают полные клювы воды. Час счастья в доме Греев. Ну, вы знаете где. На Мейпл-стрит. Там полно воды, да к тому же бесплатной. И ничего не надо бояться и взвешивать все за и против.
Интересно, откроет ли Майк Клуб сегодня вечером. Звонить ли мне ему? Вернее, позвонить прямо сейчас или сделать вид, что я никогда его не знала. Я вспоминаю, как первый раз перегнулась через стол, чтобы поцеловать его, и жар стыда обдает меня до самых корней волос.
Чтобы остыть, я наливаю себе воды.
Разудалая шайка птиц улетает, потому что на дорожку к дому въезжает отец. Вылезать из машины ему теперь труднее, чем раньше. Приходится немного раскачать тело, чтобы, придав ему ускорение, сделать движение наружу и выдернуться из ковшеобразного сиденья. Это почти стариковское раскачивание резко контрастирует с ровным русым цветом волос.
— Уичита, — говорит он, захлопнув за собой дверь черного хода на кухне. Он стискивает мне плечи, потом снимает пальто: — Мать позвонила мне в контору. Ей нужно кое-что из вещей.
— Они останутся в больнице на ночь?
Он похлопывает себя по груди.
— Они там неплохо все придумали. Без помощи мою девочку не оставят. — Покопавшись в кармане рубашки, он передает мне клочок бумаги: — Вот список.
Я опускаю глаза и вижу целый перечень. Одеяло. Мягкая игрушка-зверюшка. Кружка. Библия. Список составляла явно не Джина.
Отец вытаскивает из холодильника пиво. И только тут я понимаю: мама позвонила отцу, чтобы передать этот список, но собирать вещи будет не он.
— Так ты еще раз был в больнице? — спрашиваю я, хотя и без этого знаю ответ.
— Что? — Он срывает крышечку с банки. — Нет. Я только подъезжал туда. — Затем он бочком выскальзывает из кухни (по-другому просто не скажешь). Секунду спустя телевизор уже включен, и я слышу голоса эксгибиционистов, участвующих в вечернем ток-шоу на эту тему.
Эти голоса звучат так… одиноко. Как крики гусей ночью, в темноте, поздней осенью пролетающих у вас над головой, на высоте тысячи футов. Только в этих визгливых голосах отсутствует романтика осеннего перелета — осталось лишь невыносимое одиночество.
Весь день таращусь в окно. Вот машина. Вот стая птиц.
Пожатие. Похлопывание. Три фразы. Потом голоса людей за тысячу миль от меня теряются в осенней ночи.
Я не отрываю глаз от пальто и кейса, лежащих на кухонном столе. Маме что, приходится каждый вечер убирать эти пальто и кейс, прежде чем приступить к приготовлению ужина?
Я беру телефон и звоню в больницу. Номер приклеен к стене вместе с номерами пожарного управления, пастора, полиции и даже службы «911». Мне отвечает дежурная. Я спрашиваю ее, какой номер в палате Джины.
Пожарное управление, пастор, полиция, служба «911», средняя школа, салон-парикмахерская на Четвертой улице…
В списке нет рабочего телефона отца.
— Мама, здравствуй, — говорю я, когда мама берет трубку. — Как Джина?