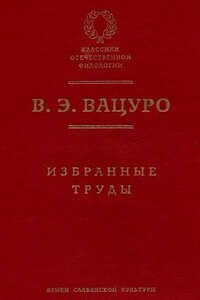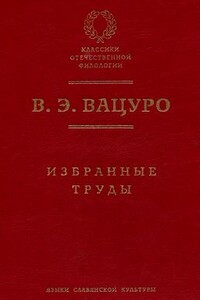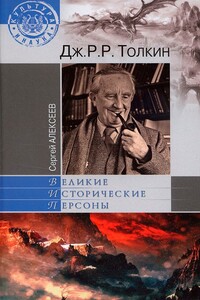Узбеком именовался П. Л. Яковлев, приехавший из Бухары.
Среди участников первого заседания Яковлев не был упомянут. Вероятно, это случайность: он уже свой человек в дружеском кружке, о нем постоянно говорится и в письмах Сомова. В середине июля мы видим его уже полноправным и действующим сочленом; он получает и задание — тему «Журналистика».
Нам предстоит теперь вернуться к прерванному чтению поздних мемуаров Панаева.
Мы остановились на описании любовной идиллии и сердечного согласия его и хозяйки салона, — согласия, нарушенного появлением Яковлева, который «втерся» в дом.
«Говорю „втерся“, — читаем далее, — потому что, приглашенный однажды за темнотою ночи остаться ночевать на даче, что бывало со мною и с другими, остался совсем жить у радушных хозяев»[615].
У Панаева были причины хорошо помнить детали этого эпизода. «Темнота ночи» — датирующий признак. До конца июня в Петербурге стоят белые ночи; в июньских письмах и Сомов говорит о «квартире Яковлева». Трудно представить себе, чтобы водворение его в доме Пономаревых никак не отразилось бы в сомовских письмах и дневниках; очевидно, это произошло тогда, когда в записях его стали чаще многодневные перерывы. Все указывает нам на вторую половину июля или август 1821 года.
«При всем своем безобразии, бросавшемся в глаза, — продолжает Панаев, — он был очень занимателен: играл на фортепьяно, пел, хорошо рисовал карикатуры. Тем и другим забавлял он ребенка-хозяйку, а с хозяином пил на сон грядущий мадеру. Конечно, приехавши в Петербург за несколько перед тем месяцев, он не имел собственной квартиры и жил у какого-то знакомого, но все-таки такая назойливость была наглою».
Нотки посмертной вражды к сопернику звучат в мемуарах, написанных через тридцать с лишним лет. След неизглаженного конфликта ощущается и в современной переписке:
«Яковлев напрасно совестится передо мною, — писал Панаев Измайлову 21 января 1825 года, и Измаилов спешил передать племяннику этот отзыв. — Я с удовольствием принял его рекомендацию г. Роуде; старался и стараюсь быть для него полезным. Узнав же от вас, что Павел Лукьянович в Вятке, я с нынешнею же почтою пишу к нему и прошу не церемониться со мною в подобных случаях. Что бы ни случилось с нами в свое известное время, а я, право, люблю его за прекрасный его талант, беспристрастие в суждениях и постоянную к вам приверженность»[616].
Об этом же «известном времени» напоминал Яковлеву и сам Измайлов:
«Не раздружились мы и за …vous m’entendez, je vous entends[617], а за журнальные пиэсы, не только чужие, но и мои собственные, верно, не раз-дружимся»[618].
Панаеву было известно, что «победоносное внимание» хозяйки обращается едва ли не на каждое примечательное новое лицо, — а примечательность Яковлева даже для него была вне сомнений. Но в начале августа у них нет еще оснований для прямой ссоры.
В альбоме Яковлева сохранилась запись рукой Софьи Дмитриевны:
«Il y a peu d’idées nouvelles et les idées nouvelles ne frappent que l’hom-me d’esprit — l’homme médiocre a tout vu, tout entendu».
(Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного: посредственность все видела, все слышала.)[619]
Под записью помета: «St. P. Août 1821».
Выше этих строк располагаются стихи Панаева, вписанные его рукой. Это те самые стихи на заданные слова «Любовь» и «Дружба», которые ему предлагалось сочинить к заседанию 12 августа. Они были потом напечатаны и известны под заглавием «К Кальпурнию»:
Ты говоришь, Кальпурний милый,
Что наше счастье на земли
Есть только призрак легкокрылый,
Едва мелькающий вдали?
Мой друг! мы слишком прихотливы:
Желаньям нашим нет конца;
Но всех ли замыслы кичливы
Ведут от плуга до венца?
Я сам, ты знаешь, от Фортуны
Умел немногое сыскать,
Одно — искусство лирны струны
Моей игрой одушевлять.
Я сам равно знаком с нуждою;
Далек от славы и честей;
Живу под кровлею простою
Отшельником мирских затей.
Но я обрел всему замену
В Любви и Дружестве святом;
Постигнул ими жизни цену;
Теперь у Счастья под крылом
Ищу того ж — увидишь вскоре,
Что ропот твой несправедлив.
Не веришь мне — читай во взоре
У Делии, сколь я счастлив!