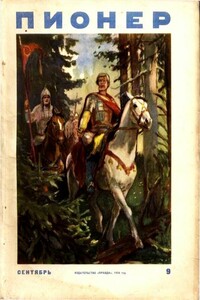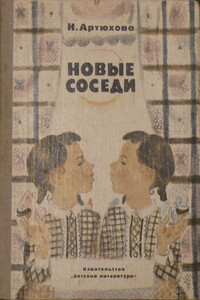— Ты что же не ешь мандарин, Леля? Может быть, тебе тоже очистить цветком?
Татка уже давно съела свой мандарин и играет оранжевыми лепестками шкурки.
Очистить цветком? Что же, пускай цветком, если это может доставить удовольствие папе. Леля протянула ему свой мандарин.
Все ее возбуждение прошло. Ей стало как-то все равно.
Она съела маленький кусочек конфеты, и от нее такой неприятный вкус во рту.
А глотать было совсем противно, даже больно. Это и днем было, еще за обедом, но тогда немножко.
Вот и Лелин мандарин раскрылся, развернулся всеми своими дольками.
Нужно бы съесть хоть одну дольку, чтоб недаром хлопотал папа.
Но ведь съесть — это значит проглотить.
Какой резкий, неприятный запах у мандарина! А о конфете и думать не хочется.
Странно, еще совсем светло, а хочется спать. Сидеть бы так и сидеть, не шевелиться…
А в комнате все стало непрочное, все двигается, плывет куда-то… Лучше закрыть глаза.
— У тебя болит что-нибудь, Лелечка?
— Горло болит.
— Муся, да у нее жар!
Как-то очень быстро наступила ночь.
Сразу. Без вечера.
И ночью тоже все двигалось. Даже кровати.
Лелина кровать поколыхалась немного и стала рядом с папиной.
Таткина кровать проплыла через всю комнату к двери столовой, застряла на минуту в ее освещенном квадрате и пропала совсем.
Леля даже не удивилась нисколько. Ей было все равно. Хотелось только спать и ни о чем не думать.
X
Лелю одевал папа. Его неловкие толстые пальцы с усилием втискивали большие пуговицы в твердые, не обмятые еще петли новой Лелиной шубки.
Рядом стоял незнакомый человек в белом халате и говорил, что нужно ехать скорее.
Леля лежала, раскинув слабые руки, как маленький ребенок, который не может одеться сам.
Ей было совестно, что папа несет ее, — ведь у него сердце, а она такая тяжелая в шубе.
— А мама поедет с нами?
— Нет, мама останется с Татой.
Когда проходили через переднюю, дверь столовой чуть-чуть приоткрылась, и мама крикнула:
— До свиданья, Леля!
— До свиданья, Леля! — Таткин голосок прозвучал издалека, из глубины комнаты.
Леля хотела ответить, но у нее сорвался голос, они, должно быть, ничего не услышали.
Белая комната с ванной. Няни в белых халатах. На табурете сердитая красная девочка, поменьше Лели и побольше Татки. Ее стригут под машинку, а она отбивается и кричит:
— Дурачонки! Дурачонки! Разбойники! Дурачонки! Мать! Какая же ты мать, если ты позволяешь свою дочку так мучить?
Взволнованная женщина в пушистом берете заглядывает из приемной:
— Нюрочка!
Сестра машет на нее рукой:
— Уйдите, мамаша, нельзя сюда. Ничего с вашей Нюрочкой не делают.
— Разбойники! Дурачонки!
Последние пряди волос падают на простыню.
Голова сердитой девочки стала круглой и гладкой, похожей на скошенное поле.
Леля со снисходительной жалостью смотрит на маленькую крикунью. Какой смысл кричать, плакать, отбиваться?..
Конечно, страшно остаться одной в больнице. Машинка холодная, щекотная. Няня, должно быть, не очень хорошо умеет стричь — иногда больно дергает волосы.
Все тело такое горячее, тяжелое, слабое, даже думать не хочется о купанье…
Но что же делать? Разве легче будет, если начнешь плакать? Уж лучше стиснуть зубы покрепче и молчать.
— Дурачонки!.. — Это уже из ванной, брызги воды долетают даже до Лели.
После купанья надевают незнакомые длинные рубашки и кофточки.
Леле опять неловко, что ее — такую большую — несут на руках.
Когда проносят по коридору мимо стеклянной мутной двери, которая странно открывается и туда и сюда, новый порыв отчаяния и с той и с другой стороны:
— Мать!.. Какая же ты мать!..
— Нюрочка!
В приоткрывшуюся на мгновенье дверь Леля видит Евгения Александровича.
— Поправляйся скорее, Леля!
— Дурач…
Здоровенная белобрысая няня, идущая впереди, исчезает за дверью в глубине коридора со своей неистовой ношей.
—..онки! — слабо доносится откуда-то издалека.
Лелю несет другая няня — пониже ростом, с карими глазами и мягкой прядкой черных волос, выбивающейся из-под косынки.
— А ты умница, — говорит она. — Не будешь плакать, поправишься скорее. Не надо бояться, у нас хорошо.
Леля прижимается щекой к ее плечу.
Так приятно услышать ласковые слова в незнакомом месте.