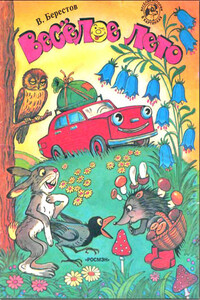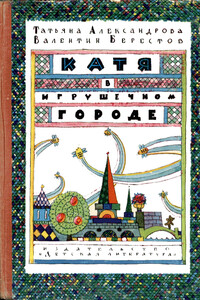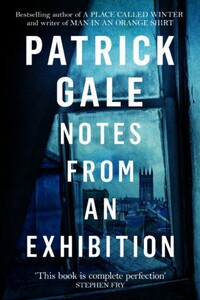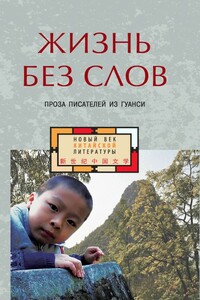Утром я проходил мимо арыка. В легкой тени только что распустившихся деревьев вечно сидит кто-нибудь, слушает шум воды. На этот раз я встретил там Джуманазара и еще одного шофера в замасленной спецовке.
— Перекур, — пояснил Джуманазар. — Между прочим. Этот человек говорит: «Вот у нас весна, деревья зеленые, хлопок сеем. А как сейчас в Чехословакии?» Я ему отвечаю. «А в Австрии?» Я ему рассказываю. «А как под Берлином?» Я ему говорю.
То и дело бегаю к Джуманазару. Расспрашиваю его про старые обычаи, он в ответ показывает фотографии фронтовых друзей, их письма. Пытаюсь выяснить название и смысл знаков, прочерченных на глине над входом в его дом. Нечто подобное этим разнообразным заштрихованным треугольникам я видел чуть ли не на керамике бронзового века. Явно в них когда-то вкладывался магический смысл — знаки оберегали дом от злых духов. А Джуманазар ведет меня в новый гараж, построенный в стиле хаули, чем-то похожий на принарядившуюся древнехорезмийскую крепость, и показывает станки, тракторы, хлопкоуборочные машины. Потом мы идем в сад за высокий заслон стройных зеленых тополей. Огромный сад. Останавливаемся перед прудом, над которым нависла крытая галерея светлого дома — межколхозный санаторий. Свежий запах листьев, воды, цветов, люцерны. А это что? Ветка цветущей сливы на абрикосовом дереве — садовник опыты ставит.
Спрашиваю, чем туркмены из племени ата занимались до революции, а Джуманазар объясняет, как в прошлом году учились у русского пасечника ухаживать за пчелами. Пчелы так и гудят.
— Вот, — говорит Джуманазар, — ценные яблони, андижанский сорт, специально в Самарканд за ними ездили. Только недавно высадили, а уже цветут. Молодцы!
Останавливаемся перед кучей грязного песка.
— Председатель нарочно бархан оставил посреди сада. Чтоб дети знали, на какой земле родились. Красивый был бархан, золотой. Испортился, понимаешь, колючкой порос. Придется убрать его. Так ничего и не сохранится в память о пустыне. Жалко все-таки.
В другом возрасте
Не замечаешь, что прошло одиннадцать лет с тех пор, как впервые очутился в экспедиционной среде, с теми же товарищами, в такой же палатке. Люди одного поколения, мы взрослеем, или, как пока еще в шутку говорим, старимся, одновременно. Отношения, которые когда-то сложились между нами, сильнее возраста. В этом секрет затянувшейся юности «старых хорезмийцев» (так мы себя называем).
Кажется, что все окружающее уже не внешний, а внутренний мир, что палатки, и крепости, и пески на горизонте встают из воспоминаний. Неужели я снова здесь?
Возраст есть возраст. И вот в заповедник нашей юности вошли дети.
Четыре года назад при свете луны я поймал на стене Беркут-калы ежика. Бедняга, пугая меня, шипел, пыхтел, топорщил иглы. Но я взял его и понес в лагерь, чтобы позабавить товарищей. Ежи и раньше часто жили у нас.
Теплое существо с мягким белым брюшком и блестящими черными глазами дрожало от страха у меня на ладони… Эх, не мне бы смотреть на него, а моей двухлетней дочке! Я отпустил ежика.
Тогда же ко мне стали приходить маленькие чабаны. Они, должно быть, разгадали во мне близкого их миру человека.
О приходе ребятишек возвещали четыре мохнатых козленка. Они лихо вскакивали на стены, на уступы, на груды отвала. Ребятишки криками прогоняли их вниз и тихо усаживались со мной рядом. Они приветствовали меня традиционным: «Хорманг!» (Не уставай!)
Это были четыре друга. Кадыр — маленький араб, Худайберген — узбек, Нурумбет и Арасултан — туркмены. Я давал им потрогать красные и черные черепки, круглые плоские пряслица — грузики для веретен. Иногда они по очереди брали лопату и выбрасывали землю, стараясь кинуть как можно дальше и выше и поднимая страшную пыль. Попросить у меня нож или кисточку ребята долго не решались.
Однажды они привели с собой девочку казашку в красном платьице, с круглым, как луна, и очень серьезным лицом. Звали ее Ай-Слу («Лунный свет»). Ребята почтительно предоставили ей лучшее место — рядом со мной. Ай-Слу умными глазенками изучала мои операции, быстро разобралась, что к чему, и взяла у меня кисточку.