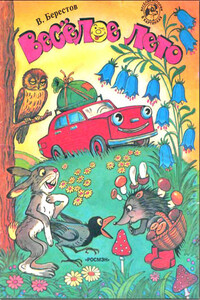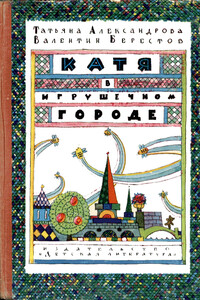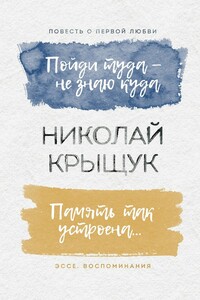Растаял снег. Появились откуда ни возьмись прошлогодние листья и давай носиться по лесу. Видно, решили, что опять их время пришло.
Ветер утих, и они угомонились. Но заметила ветка, что они и без ветра шуршат потихонечку. Это из-под них травинки вылезают.
Травинки вылезали поодиночке, а листва на дереве распустилась вся сразу. Проснулись ветки-соседки и удивились:
— Ишь ты! Хворостина-то за зиму не сломалась. Видать, крепкая.
Услышала это ветка и загрустила:
— Значит, я и вправду хворостина. Значит, ничего у меня не получится. Хоть бы срубил меня человек, бросил бы в костер…
И она представила себе, как загорится костер, как вспыхнут на ней языки огня, словно большие красные листья. От этого ей стало тепло и немножко больно.
Тут на нее сел дятел:
— Привет-привет! Как здоровье? Не беспокоят ли жучки-короеды?
— Дятел, дятел… — вздохнула ветка. — Опять ты все перепутал — сухую ветку за живую принял.
— Какая же ты сухая? — удивился дятел. — Ты просто разоспалась. Другие вовсю зеленеют, а у тебя только-только почки раскрылись. Кстати, куда девалась хворостина, которая тут торчала?
— Так это же была я! — обрадовалась ветка.
— Перестань говорить глупости! — сказал дятел. — То была абсолютно сухая ветка. Чего-чего, а живую ветку от сухой уж как-нибудь отличу. Я же все-таки головой работаю.
1964
Что за странное шествие движется по лугам и огородам, даже не глядя на стог сена, на грядки с капустой и репой, на корову с теленком?
Это огромные серебристые ивы, важные, невозмутимые, встали парами, взялись за руки, наклонились друг к дружке, чтобы удобнее было шептаться, и, сворачивая то вправо, то влево, а то и назад, медленно, неохотно бредут туда, где течет большая светлая Ока.
Подойди к ним. Раздвинь палкой высокую крапиву. Только, пожалуйста, не задень при этом ежевики и смородины. И если ни крапива, ни даже вкусные ягоды тебя не задержат, то ты увидишь под тяжелым навесом ветвей маленькую речку Скнижку. Даже днем бежит она в полумраке, и ее вода кажется не прозрачной, а какой-то черно-зеленой.
Ивы дрожат над ней каждым листочком. Чтобы солнце ее не пекло, чтобы ветер ее не морщил (ей так вредно волноваться!), чтоб корова ее не выпила, а теленок не замутил, чтоб укрыть ее от дурного глаза. А так как неизвестно, чей дурной, а чей хороший, то на всякий случай ее прячут от любого глаза.
Так до самого устья (спасибо вам, добрые ивы!) не увидит Скнижка ни солнца, ни неба, ни облаков, ни домов, ни купальщика, ни рыбака, ни лодчонки, ни поплавка, ни лесов, ни полей, ни детей, ни сетей…
А заботливые ивы нарочно сворачивают то туда, то сюда, чтобы дорога была длиннее, чтобы не скоро добежала Скнижка до Оки, чтобы долго она не увидела широкого мира.
— Ах, ах, она еще совсем дитя, ей рано, рано… — шепчут ивы, все теснее сплетаясь над ней, все ниже склоняясь к черно-зеленой воде и гладя ее своими ветками.
А речка бежит и бежит. Ее не удержишь даже лаской.
1960
Этот яркий желтый цветок на светлом мохнатом стебельке появляется весной вместе с подснежниками. Он так торопится, что не успевает выпустить листья. Он даже не знает, какие они.
А цветет он там, где земля потревожена, изранена, обнажена. Цветет на откосах. Цветет на покрытых углем и шлаком насыпях. Цветет около ям и в самих ямах. Весело желтеет на грудах выброшенной земли.
— Мать-и-мачеха расцвела! Мать-и-мачеха расцвела! — радуются люди.
— Кого они так называют? — удивляется цветок. — Наверное, землю, на которой я расту. Для меня-то она мать, а для других цветов пока еще мачеха.
Но вот проходит время цветов, и наступает пора больших зеленых листьев. С изнанки они мягкие, светлые, бархатистые: потрешь о щеку и станет тепло.
— Это мать, — говорят люди.
Зато снаружи листья твердые, скользкие; приложишь к щеке — почувствуешь холод.
— А это мачеха, — объясняют люди. Но листьям мать-и-мачехи все равно, как их называют. У них слишком много забот. Как крепкие зеленые щиты, спешат они прикрыть, заслонить собой землю, и своей изнанкой, своей теплой, материнской стороной они прижимаются к земле и шепчут ей:
— Мы с тобой, земля. Ты снова зеленеешь.