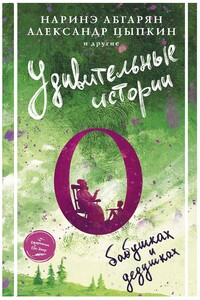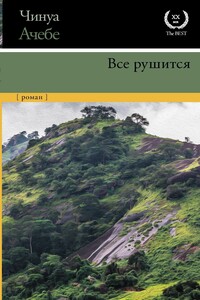— Вы думаете, это легко — лишить надежды…
— Родственников, ты опять о них? Конечно, отчасти ты прав: глупо осуждать их за стремление к благам земным. Но еще глупее казнить себя за то, что не можешь полностью удовлетворить их желаний. Да этим желаниям и конца не будет — стоит только решить, что ты обязан ломать свою жизнь в угоду их алчности. Между прочим, твои-то надежды, твои желания их совершенно не интересуют — об этом ты думал? И еще. Люди вроде Бремпонга тебе и таким, как ты, не страшны. Они любят земные блага и умеют их добывать. Алчных неудачников — вот кого ты должен остерегаться. Им тоже нужны земные блага, но, как до них дотянуться, они не знают. И пытаются найти добытчика. Ты хочешь им стать? Хочешь положить свою жизнь на добывание благ для своих родственников?
— Что ж, это бремя побывавшего, — проговорил Баако. — Да и все люди помогают друг другу, иначе не проживешь.
Окран беспомощно посмотрел на Хуану. Ей очень не хотелось, чтобы разговор оборвался, и она поспешила вмешаться:
— Если ты захочешь помогать родственникам и одновременно делать что-нибудь полезное для всего общества, то неминуемо придешь к разладу с самим собой. Интересы семейства и общества почти никогда не совпадают. И не так-то легко решить, что важнее.
— А решить нужно, — со вздохом сказал Окран. — Вы уж извините меня за резкость, но человек, если он хочет остаться человеком, должен сделать однозначный выбор. Пойми, Баако, у тебя и твоих родственников несовместимые стремления. Ты переполнен творческими идеями, а их гложет внутренняя пустота. Так ведь тебе-то не надо возмещать духовную пустоту богатством. Ты же не делец, Баако!
Но тот уже перестал слушать своего бывшего учителя. Он демонстративно, как показалось Хуане, отвернулся от Окрана и глядел в небо; лицо его было безучастным; но он беспомощно и нежно сжимал ее руку, словно пытаясь внушить ей, что не все его чувства умерли.
За больничной стеной, в соборе, размеренное бормотание, постепенно набирая силу, переросло в распевный речитатив, слышимый здесь как безудержный плач по неосуществимой мечте, которая, никогда не сбываясь, лишь скрашивает вечной надеждой самое горькое отчаяние и успокаивает мятущуюся душу — это успокоение явственно прозвучало в заключительной ноте, и Хуана легко вспомнила слова молитвы:
Et expecto
resurectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi
И Окран, и Баако молчали. Вскоре после того, как стихло церковное пение, из палаты вышла сестра и сказала, что время утреннего свидания заканчивается. Хуана очень утомилась. Поцеловав Баако, она подождала, пока он распрощается с Окраном, и вместе со старым учителем вышла на площадь.
— Замечательно, что вы опять пришли, — сказала она.
— Я расстроил его.
— Не уверена. Он знает, что вы друг.
— Надеюсь.
— Я бы ни за что не смогла поговорить с ним так откровенно, — призналась Хуана. — И ведь понимаю, что нужно, а не могу. У меня никогда нет полной уверенности в своей правоте. Баако называет меня за это католической язычницей.
— Что ж, ему виднее, — сказал Окран. — В нем очень силен миссионерский дух.
— Это еще не самое худшее. — Она попыталась скрыть горечь, но голос выдал ее. — Когда человек одинок, спасение души превращается в пустую иллюзию.
Окран засмеялся.
— Ну, в толчее его тоже не обретешь. Надо побыть наедине с собой, чтобы понять, кто ты и чего стоишь. А уж потом…
Они шли рядом. Он умолк, обнял ее за плечи, на мгновение прижал к себе и, резко отстранившись, зашагал туда, где оставил свою машину.
На обратном пути Хуана почувствовала, что ее сковала тяжкая тоска. Приехав домой, она долго сидела, ничего не делая и пытаясь собраться с мыслями; но думать не хотелось, в голове проплывали лишь обрывки грустных и тревожных воспоминаний да чуть тлела благодарность Окрану за то, что он сегодня навестил Баако. Хуана встала, бесцельно обошла коттедж — холодный, безжизненный… и неожиданно поняла, что пора привести в порядок пустующую комнату.