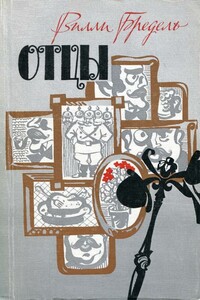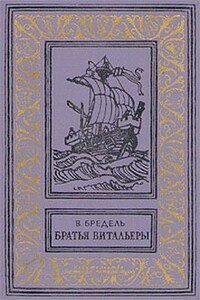О, боже, тьма какая!
Как жутко в сей тиши!
Пустыня вкруг меня, —
И ни живой Души.
Снесу ли испытанье…
Сегодня, по окончания поистине воодушевляющего концерта, названного им «Большим оперным попурри» и включающего в себя мелодий из «Африканки», «Гугенотов», «Жидовки» и «Маргариты», Вальтер, как ребенок, радуется предстоящей завтра встрече с музыкой, которая начнется ровно в три часа пополудни (в эта время раздается сигнал к смене караульных) и когда зазвучат его любимые мелодии: «Лючия ди Ламермур», «Любовный напиток», «Норма», «Пуритане», мелодии обожаемого им Верди, к которому Вальтер питал слабость. Верди он знает основательно, «Риголетто» и «Аиду» он пропоет с начала и до конца, а на закуску оставит дружеский дуэт из оперы «Сила судьбы»… Завтрашний день будет для него праздником… Как было бы хорошо, если бы еще и сосед мог принять участие в этих музыкальных развлечениях, тогда он имел бы и публику. Но товарищ, видимо, не слишком сообразителен. За решеткой он наверняка впервые, иначе должен бы знать азбуку перестукивания… И, однако же, стоит попытаться еще раз.
Два удара — пауза — два удара… Один — пауза — пять… Три — пауза — три… и так далее.
Но за стеной по-прежнему тихо.
Долгий пронзительный свисток. Слышен зычный рык дежурного Ленцера:
— «A-один»! По койкам!
Семь часов, время сна.
Торстен снимает, с соломенного тюфяка два одеяла, перетряхивает солому и начинает раздеваться. Наливает полный таз холодной воды и обтирается.
Торстен лежит на своем соломенном тюфяке. Семь часов. На дворе еще совсем светло. Семь часов. В это время люди идут в театр, кино; в это время начинаются собрания, заседания. Еще, наверное, и солнце не скрылось. Как чудесны эти дни перехода от лета к осени! Поспевают плоды, листва начинает отливать золотом. Ах, не надо думать об этом! Не надо!
Обертруппфюрер Мейзель, труппфюрер Тейч и матрос-штурмовик Нусбек входят в караульную при отделении «А-1». Там сидят только Лерцер и Кениг.
— Роберт, пойдешь с нами? Мы хотим проведать Кольтвица, — обращается Мейзель к Ленцеру.
— Ступай сам, мне неохота.
— А ты? — спрашивает он Кенига.
— Да этот Кольтвиц еще от предыдущей порки не опомнился.
— Вот важное дело! Эту еврейскую сволочь нужно каждый день пороть.
Но Кениг отказывается. Мейзель снова глядит волком. Он чует, что дело неладно. Уж не замышляют ли они против него заговор? Ну, он этого дожидаться не станет. И, не прощаясь, Мейзель уходит со своими спутниками.
— Ишь озверевший хам! — ворчит Кениг. — Я бы на твоем месте вообще не позволял пороть людей у себя в отделении помимо приказа.
— Ерунда, ведь дело идет об этом еврее из Любека!
— Безразлично. Попробовал бы этот Мейзель сунуться в мое отделение!
— Ты знаешь, он бы меня со свету сжил, если бы я ему сказал хоть слово. Да и не желаю я ему мешать, по мне, пускай перебьет всю эту сволочь.
Торстен лежит в полудремоте с закрытыми глазами — и вдруг в испуге вскакивает от шума и топота над головой. Совсем как третьего дня. Опять кого-то бьют. Он напряженно прислушивается. На одно мгновенье все стихает. А затем начинают доноситься звуки непрерывно хлопающих ударов. Один за другим. Хлоп-хлоп! И странно: ни крика, ни стона. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Должно быть, бьют вдвоем, попеременно. Но почему избиваемый не кричит, не воет? Кто может выдержать молча такие страдания? А там без устали: хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!
Новый сосед, видно, тоже не спит и стучит в стену. Если те там, наверху, это услышат, то непременно наведаются сюда в подвал. Отчаянный парень! Видно, не сознает опасности. Торстен стучит нетерпеливо, стучит до тех пор, пока сосед не прекращает.
Ужасный, животный крик. И снова мертвая тишина. Только слышны хлопки ударов. Они его там забьют до смерти. Это непрерывное «хлоп-хлоп! хлоп-хлоп!» может свести с ума.
У Торстена выступает на лбу холодный пот. Кто бы мог в это поверить? Ему вспоминается ночь в отряде особого назначения. Перед ним весь штаб штурмовиков и эсэсовцев во главе с наместником, тупые, холодные рожи, похожий на разъяренного бульдога комиссар с протезом.
А наверху по-прежнему: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп… Пусть бы он лучше кричал. Самое ужасное — это тишина. Но Торстену кажется, будто все-таки слышны стоны.