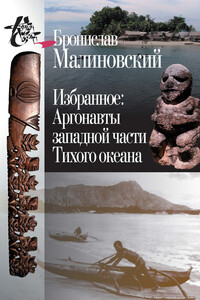В сердце моем, убаюканный, дремлет всегда[919].
Перевод К. Бальмонта
Я процитировал Шелли, потому что Шелли считается учителем Суинберна; и потому что в его песне, как и в песне Кэмпиона, есть то, чего нет у Суинберна, — красота музыки и красота содержания; кроме того, она здесь ясно и просто выражена, всего лишь двумя прилагательными. А вот у Суинберна значение и звучание едины. Значение слова занимает его особо: он использует или, точнее, "разрабатывает" значение слова. И это связано с интересным фактом, касающимся его словаря: он использует наиболее общие слова, так как его эмоции никогда не конкретны, никогда не связаны непосредственно с видением, никогда не сфокусированы; это эмоции, усиленные не с помощью интенсификации, а с помощью экспансии.
Жил в старой Франции певец
У Средиземного, скорбного, без приливов моря.
На земле песков, руин и золота
Сияла одна женщина, лишь она одна[920].
Как видите, Прованс здесь выступает как единственное конкретное понятие, подвергающееся смысловому расширению. Суинберн обозначает местность в самых общих словах, что имеет для него свою особую ценность. "Золото", "руины", "скорбный", — ему необходимо не просто звучание, но смутные ассоциации, предоставляемые этими словами. Он не видит конкретного места, как здесь, например:
Li ruscelletti che dei verdi colli
Del Casentin descendon guiso in Amo…
Казентинские ручьи,
С зеленых гор свергающие в Арно
По мягким руслам свежие струи[921].
Перевод М. Лозинского
На самом деле, именно слово возбуждает и восхищает его, а вовсе не объект. Разбирая по частям любое стихотворение Суинберна, мы всегда обнаруживаем, что объекта там нет — есть только слово. Сравните
Подснежники, что молят о прощении
И тоскуют от испуга[922]
с нарциссами, "предшественниками ласточек"[923]. Подснежник Суинберна исчезает, нарцисс Шекспира остается. Шекспировская ласточка остается в "Макбете"[924], птица Вордсворта, "Нарушающая молчание моря", тоже остается; ласточка из "Итила"[925] исчезает. Сравните, опять же, хор из "Аталанты" с хором из афинской трагедии. Хор Суинберна почти что пародия на греческий хор: в нем есть поучительность, но нет значимости, хотя бы тривиальной:
По крайней мере, мы свидетельствуем
о тебе прежде, чем умрем,
Что все это не иначе, а так…
До начала лет
Наступило ради создания человека
Время с даром слез;
Горесть с плавящимся стеклом…
Это не просто "музыка"; это воздействует, поскольку оказывается грандиозным утверждением, подобно утверждениям, являющимся нам во снах; проснувшись, мы обнаруживаем, что "плавящееся стекло" больше бы подошло для обозначения времени, чем горя, и что слезы даруются горем не в меньшей степени, чем временем.
Из сказанного может показаться, что все творчество Суинберна возможно представить подделкой, такой же подделкой, как плохие стихи. Так оно и было бы, но только в том случае, если бы действительно существовало нечто такое, чем его стихи претендуют быть, на самом деле этим не являясь. Мир Суинберна не зависит от какого-то другого мира, который он пытается воспроизвести; в нем есть цельность и независимость, необходимые для его оправдания и его бессмертия. Он внеличностен, и никто другой не мог бы его создать. Выводы не расходятся с постулатами. Он неразрушим. Ни один из очевидных упреков, высказывавшихся по отношению к сборнику "Стихотворения и баллады"[926], не имеет силы. Эта поэзия не болезненная, не чувственная и не разрушительная. Данные прилагательные применимы лишь по отношению к материалу, к человеческим чувствам, а их в случае Суинберна не существует. Болезненность относится не к человеческим чувствам, а к языку. Язык в здоровом состоянии воспроизводит объект, он столь близок к объекту, что они отождествляются.
Они отождествляются в стихах Суинберна единственно потому, что самого объекта больше не существует, потому что значение становится просто галлюцинацией значения, потому что язык, вырванный с корнями из почвы, приспособился к независимой жизни и к питанию воздухом. У Суинберна, например, мы видим слово "weary" (усталый), процветающее таким образом независимо от конкретной и реальной утомленности плоти или духа. Плохой поэт обитает частично в мире объектов, частично в мире слов, и эти два мира у него никак не могут совпасть. Лишь человек гениальный может обитать столь исключительно и постоянно среди слов, подобно Суинберну. Его язык не мертв, как язык плохой поэзии. Он очень живой и живет своей собственной, особой жизнью. Однако язык, более важный для нас, это язык, прорывающийся к усвоению и выражению новых объектов, новых групп объектов, новых чувств, новых точек зрения, — как, например, проза мистера Джеймса Джойса или раннего Конрада.