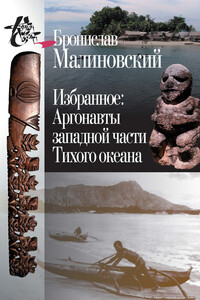…Будет ли он,
Человек, ее последнее произведение, —
который казался столь прекрасным,
Со столь великолепным предназначением в глазах,
Чей псалом возносился в зимние небеса,
Кто строил себе храмы из бесплодной молитвы,
Кто верил, что Бог, действительно, есть любовь,
А любовь — конечный закон Творения,
Хотя Природа, с добычей в окровавленных зубах и когтях,
Вопияла против его верования,
Кто любил, кто страдал от бесчисленных тягот,
Кто сражался за Истинное, за Справедливое, —
Будет ли он развеян по пыли пустынь
Или запечатан внутри железных гор[905]?
Эта странная абстракция, "Природа", становится настоящим богом или богиней, возможно, подчас более реальной для Теннисона, чем Бог с большой буквы ("Значит, Бог и Природа враждуют?"). Надежда на бессмертие смешивается (что типично для эпохи) с надеждой на постоянное и последовательное улучшение этого мира. Много сказано об интересе Теннисона к современной ему науке и о впечатлении, произведенном на него Дарвином. Как бы то ни было, поэма "In Memoriam" написана за несколько лет до "Происхождения видов", а вера в социальный прогресс на основе демократии существовала намного ранее; и я допускаю, что вера теннисоновской эпохи в человеческий прогресс была бы столь же сильной, даже если бы открытия Дарвина задержались лет на пятьдесят. И в конце концов, тут нет логической связи: поскольку вера в прогресс уже распространилась, открытия Дарвина оказались с ней в одной упряжке:
Больше уже нисколько не подобный зверю,
Поскольку все, что мы думали, любили, делали,
На что надеялись и от чего страдали, — всего лишь семя
Тогоf что в них цветет и плодоносит;
Следовательно, человек, который вместе со мной ходил
По этой планете, был благородным видом,
Появившимся до времени,
Этот мой друг, который живет в Боге,
В том Боге, который всегда живет и любит,
В одном Боге, одном законе, одной стихии
И одном далеком чудесном событии,
К которому движется все творение[906].
В этих строках выявляется интересный компромисс между религиозной позицией и совершенно иным явлением — верой в человеческое совершенство; однако для современников Теннисона это различие не было столь явным. Они могли впасть в заблуждение, но я не думаю, что Теннисон мог ему поддаться, во всяком случае не полностью: его чувства были честнее его ума. Существуют и другие свидетельства — например, даже в раннем стихотворении "Локсли Холл" — свидетельства того, что Теннисон вовсе не с благодушием смотрел на все происходящие вокруг него перемены — развитие промышленности, возникновение класса торговцев, предпринимателей, банкиров; и возможно, с годами, он все более мрачно представлял себе будущее Англии. По натуре он был чужд доктрине, которую что-то побудило его принять и восхвалять.
Я сказал, что чувства Теннисона были честны; но они обычно таились в глубинах его души. Думаю, "In Memoriam" может по праву считаться религиозной поэмой, но не по той причине, по которой она казалась религиозной его современникам. Она религиозна не из-за его веры, а из-за его сомнения. Его вера бедна, а его сомнение — очень сильное переживание. "In Memoriam" — это поэма отчаяния, но отчаяния на религиозном уровне. А определить ее отчаяние прилагательным "религиозное" означает возвысить эту поэму над большинством произведений той же темы, наследовавших ей. Потому что "Город страшной ночи" и "Парень из Шропшира"[907] и стихотворения Томаса Гарди по сравнению с "In Memoriam" — произведения малые: "In Memoriam" более великое произведение и охватывает собой их все>2.
Приближаясь к концу, оглянемся на начало и вспомним, что "In Memoriam" не было бы великой поэмой, а Теннисон — великим поэтом, не обладай он совершенством поэтической техники. Теннисон — великий мастер стихосложения и великий мастер меланхолии; не думаю, что какой-либо другой поэт, писавший по-английски, имел более тонкий слух к гласным или тоньше чувствовал некоторые состояния боли, тональности страдания:
Дорогие, как незабвенные поцелуи после смерти,
И сладкие, как поцелуи, воображенные безнадежной фантазией
На губах, предназначенных другим; глубокие, как любовь,