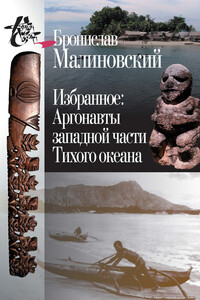В связи с годовщиной Никколо Макиавелли нам стоит обратиться не столько к истории его влияния, которая является всего лишь историей того, как по-разному его неверно понимали, сколько к природе его мысли и к причинам столь сильного ее воздействия на умы.
"Посему первое место я отдаю общей склонности всего людского рода к вечной и беспрестанной жажде все новой и новой власти, которая прекращается только со смертью[308]". Эти слова Гоббса кажутся поначалу выдержанными в том же самом тоне, что и процитированное выше высказывание Макиавелли. Оба имени часто притягивали друг к другу, однако дух и намерения Гоббса и Макиавелли полностью различаются. "Государя" часто воспринимают в том же ключе, что и "Левиафан". Однако Макиавелли не только нельзя назвать политическим философом, вроде Аристотеля и Данте, еще меньше является он философом, каким был Гоббс. В нем присутствует ясность Аристотеля и патриотизм Данте, но с Гоббсом он имеет мало общего. Макиавелли целиком поглощен своими задачами, задачами своего места и времени; однако полностью отдавшись делу своего конкретного государства и более великому делу единой Италии, о которой он мечтал, Макиавелли достигает гораздо большей беспристрастности и отстраненности, чем Гоббс. Зрелище национальных бедствий не затрагивает чувств Гоббса; его гораздо больше интересует собственная теория, поэтому мы можем рассматривать ее частично как результат слабостей и извращений его собственного темперамента. В высказываниях Гоббса о природе человека часто присутствует намеренное преувеличение, привкус сплина, возникающего, вероятно, в результате определенного осознания слабостей и недостатков собственного характера и своей жизни. Подобное преувеличение, столь присущее определенному типу философов со времен Гоббса, вполне справедливо может ассоциироваться с цинизмом. Поскольку истинный цинизм — всего лишь следствие недостатков наблюдателя, но не заключение, естественно вытекающее из рассмотрения объекта, он совершенно противоположен "констатации фактов". У Макиавелли цинизм вообще не присутствует. Ни одно пятнышко, возникающее в результате слабостей и недостатков собственного характера и поведения, не замутняет чистого стекла его взгляда на жизнь. Разумеется, в деталях, когда значение слов оказывается слегка сдвинутым, мы чувствуем определенную сознательную иронию; тем не менее общий его взгляд остается не затронутым никакой эмоциональной окраской. Мировоззрение, подобное тому, что мы находим у Макиавелли, подразумевает состояние души, которое можно назвать состоянием невинности. Взгляд на жизнь, аналогичный взгляду Гоббса, слегка театрален и почти сентиментален. Безличность и невинность Макиавелли — явление столь редкое, что они вполне могут стать ключом к пониманию как его постоянной власти над людьми, так и постоянного искажения, которому он подвергается в умах людей гораздо менее чистых, чем он сам.
Мы вовсе не утверждаем, что Макиавелли совершенно холоден и беспристрастен. Наоборот, он предоставляет еще одно доказательство, что великие силы интеллекта вырастают из великих страстей. Макиавелли был не просто патриотом, патриотическая страсть приводила в движение его ум. Хорошо таким писателям, как лорд Морли[309], представлять Макиавелли в виде осторожного, бездушного хирурга, безразличного к извращениям морали и занятого только своими клиническими исследованиями. Лорду Морли не довелось, подобно Макиавелли, увидеть свою страну разодранной, разграбленной и униженной не просто иностранными завоевателями, но иностранными завоевателями, которых призвали враждующие местные правители. Унижение Италии было для Макиавелли личным унижением, оно лежит у истоков его мысли и его сочинений.
Этот мощный национализм, несомненно, подавил и исказил в душе Макиавелли все прочие моральные и духовные ценности. Если они и встречаются в его трудах, то всегда трактуются лишь в их отношении к государству. Государство в его понимании — нечто великое и благородное. Сам он становится советником Государя только потому, что печется о благе всего общества. К человеку, вроде Наполеона, который высоко ценил Макиавелли и чье восприятие реальности делало фигуру Макиавелли весьма привлекательной в его глазах, сам Макиавелли мог бы почувствовать лишь отвращение; для него он был бы еще одним иностранным узурпатором и беспредельным эгоистом, не более. К тому же Макиавелли и не заинтересован в современной идее империи; объединенная Италия была пределом его мечтаний. На самом деле, читая наиболее значительное его произведение "Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия", мы часто ощущаем, что он гораздо более восхищается Римом республиканским, нежели императорским. Первая его мысль всегда о мире, благоденствии и счастье подданных, при этом он хорошо знает, что счастье это состоит не только в мире и преуспеянии. Оно зависит от добродетели граждан и в свою очередь поддерживает ее. Гражданские добродетели не могут существовать без определенной меры свободы, и он постоянно озабочен, насколько достижима такая относительная свобода: