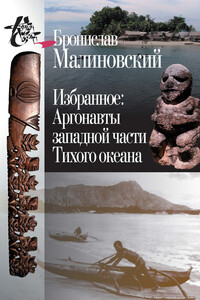Наше обиходное мышление гораздо проще объясняет чудесное через естественное, нежели естественное — через чудесное. Второе, однако, не менее необходимо, чем первое. Чудо, которое именно в данном качестве признано всеми и в которое все без труда поверили, выглядит каким-то странным чудом, поскольку то, что является чудом для всех без исключения, для всех же может показаться чем-то вполне естественным. Мне кажется, заслуживает доверия любое объяснение четвертой Эклоги, сделанное комментаторами или историками, поскольку и тех и других интересует прежде всего, какой смысл сам Вергилий вкладывал в свои стихи. Однако, если при этом в мире существует такая вещь, как вдохновение, — а от употребления этого слова мы до сих пор не отказались, — то именно оно как раз и не поддается историческому исследованию.
Мне пришлось рассматривать четвертую Эклогу, так как это настолько важно при обсуждении места Вергилия в христианской традиции, что уход от подобного разговора мог бы оказаться неправильно понятым. Говорить же о ней, не определившись относительно взгляда, согласно которому там содержится пророчество о пришествии Христа, было бы вряд ли возможно. Я хотел лишь показать, что буквальное прочтение этой Эклоги как пророчества сыграло решающую роль для раннего признания Вергилия в качестве подходящего чтения для христиан и тем самым обусловило его влияние на христианский мир. Я не нахожу в этом ни простой случайности, ни какого-то литературного курьеза. Более всего, однако, меня интересует то смыслообразующее начало у Вергилия, которое обеспечивает ему столь важное, прямо-таки уникальное место в конце дохристианской и начале христианской эры. Его взгляд обращен в обе стороны, он образует связь между старым и новым миром, четвертая же Эклога может рассматриваться как символ такого его положения. Итак, в чем же именно величайший из римских поэтов предвосхищает христианский мир, притом так, как это не было дано поэтам греческим? Ответ на данный вопрос дается покойным Теодором Геккером в книге, недавно опубликованной в английском переводе под названием "Вергилий, отец Запада"[216]. Его методом я и собираюсь в дальнейшем воспользоваться.
Теперь позволю себе небольшое отклонение личного свойства. Когда я учился в школе, случилось так, что мое знакомство с "Илиадой" и "Энеидой" произошло в один и тот же год. К тому времени я уже утвердился во мнении, что изучение греческого языка интереснее латинского. Я и сейчас думаю, что совершенство этого языка является непревзойденным по части передачи широчайшего диапазона и тончайших нюансов мысли и чувства. Тем не менее Вергилий оказался мне ближе, чем Гомер. Быть может, все было бы иначе, начни я с "Одиссеи", а не с "Илиады", поскольку после прочтения нескольких песен "Одиссеи", — а мне так и не пришлось прочесть в греческом оригинале больше этих нескольких песен, — я испытал гораздо больше удовольствия. Слава Богу, такое мое предпочтение совсем не означало, что я счел Вергилия более великим поэтом. От такого заблуждения нам удается уберечься в юности просто потому, что мы слишком естественны, чтобы задаваться подобным искусственным вопросом — искусственным, поскольку, как бы Вергилий ни следовал методу Гомера, он отнюдь не старался создать нечто совершенно идентичное. С таким же точно успехом можно было бы подвергнуть оценке сравнительное "величие" "Одиссеи" и "Улисса" Джеймса Джойса на том лишь основании, что Джойс для совершенно других целей использовал сюжетную схему "Одиссеи". Моему наслаждению "Илиадой" в этом возрасте препятствовало поведение персонажей, о которых писал Гомер. Причем боги оказались таким же игралищем страстей, были столь же безответственны, лишены социального инстинкта и чувства "честной игры", как герои. Это меня шокировало. Ахилл вообще выглядел головорезом; единственным героем, кто хоть как-то отличался своим умением себя вести и здраво судить, был Гектор. Такого же взгляда, как мне казалось, придерживался и Шекспир:
Когда известно всем нам, что Елена
Жена царю спартанскому, закон
Природы и народов побуждает