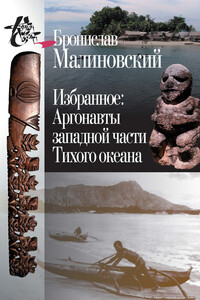Вергилий и христианский мир
Почитание, с которым к Вергилию относились на протяжении всей истории христианского мира, можно в ходе его исторического рассмотрения легко представить публике как результат разного рода случайностей, несообразностей, перетолкований и суеверий. При подобном подходе становится понятно, почему поэзия Вергилия ценилась так высоко, однако невозможно прийти к пониманию, почему именно он заслужил столь высокое место. Еще менее убедительным выглядит заключение о необычайной ценности творчества Вергилия для сегодняшнего, завтрашнего и последующих поколений. Меня же интересуют те качества, которые делают его особенно близким для христианского сознания. Подобное утверждение отнюдь не означает, что тем самым ему придается некая особая роль как поэту или даже моралисту среди других поэтов, греческих или римских.
Существует, однако, некая "случайность", своего рода "перетолкование", сыгравшее столь важную роль в истории, что пренебрежение им выглядело бы намеренным умолчанием. Речь, разумеется, идет о четвертой Эклоге[208], где Вергилий по случаю рождения (или только ожидания рождения) сына своего друга Поллиона, незадолго до того назначенного консулом, высоким стилем излагает, в сущности, поздравительное письмо счастливому отцу.
Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый.
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство…
Жить ему жизнью богов; он увидит богов и героев
Сонмы, они же его увидят к себе приобщенным.
Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей…
Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом
Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский…
Перевод С. Шервинского.
Подобные выражения всегда казались несколько преувеличенными; что же касается самого ребенка, о котором шла речь, то он так и не оставил значительного следа в истории. Существовало даже предположение, что Вергилий попросту подшучивал над своим другом, используя цветистые ориентальные гиперболы. Некоторые комментаторы считали, что поэт имитировал или даже пародировал стиль прорицаний Сивилл[209]. Другие полагали, что стихи скрыто адресованы Окгавиану, а то и вообще в них имеется в виду отпрыск Антония и Клеопатры[210]. Французский ученый Каркопино не без основания находит в этих строках отголоски учения Пифагора[211]. Таинственность содержания стихотворения ни у кого не вызывала особенных вопросов, пока оно не попало в руки Отцов Церкви[212]. Дева, Золотой век, Великий год, параллель с Пророчеством Исайи[213], ребенок сага deum suboles ("милый потомок богов, Юпитера грозного отпрыск"), который мог быть только самим Христом, чье пришествие Вергилий предвидел в 40 г. до н. э., — Лактанций и Бл. Августин[214] всему этому, разумеется, верили; так же считала и средневековая Церковь, и Данте, и даже, весьма по-своему, Виктор Гюго.
Можно, разумеется, найти и другие объяснения, в этом отношении наши возможности простираются дальше, чем у Отцов Церкви. Мы знаем, например, что Вергилий, бывший одним из ученейших мужей своего времени (как продемонстрировал нам м-р Джексон Найт[215]) и хорошо знавший античный фольклор, имел, хотя бы косвенное, знакомство с религиями и сакральными текстами Востока. Этого достаточно, чтобы объяснить связи с древнееврейскими пророчествами. Если же видеть в предсказании Воплощения простое совпадение, в этом случае все зависит от того, что мы за совпадение принимаем, равным образом взгляд на Вергилия как на пророка христианства будет зависеть от нашего понимания слова "пророчество". В том, что самого Вергилия интересовали прежде всего домашние дела или же римская политика, у меня нет никаких сомнений; полагаю даже, что поэт был бы весьма удивлен, узнай он о судьбе, уготованной его четвертой Эклоге. Если бы пророком по определению считался человек, полностью осознающий все то, что он произносит, вопрос был бы для меня вообще закрыт. Но если слово "вдохновение" имеет хоть какое-то значение, то смысл его заключается именно в том, что от говорящего или пишущего исходит нечто такое, что сам он полностью не понимает и даже может неправильно интерпретировать, когда вдохновение его покинет. Все сказанное относится и к поэтическому вдохновению, так что именно поэтому мы имеем гораздо больше оснований ценить Исайю как поэта, нежели объявлять Вергилия пророком. Поэт может полагать, что он выражает только свой личный опыт, его стихи могут быть для него лишь способом рассказать о себе, не выставляясь на всеобщее обозрение, тем не менее в глазах читателей все им написанное будет выглядеть выражением как их собственных скрытых чувств, так и восторгов и отчаяния целых поколений. Ему не обязательно знать, чем отзовется его поэзия в душах других людей, пророку нет нужды понимать значения собственных пророчеств.