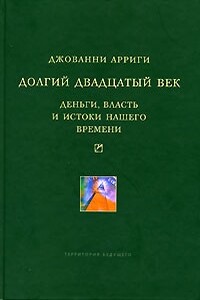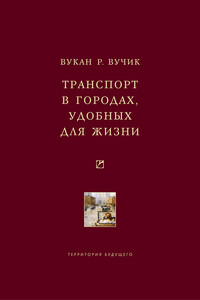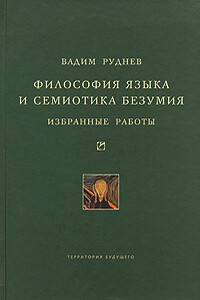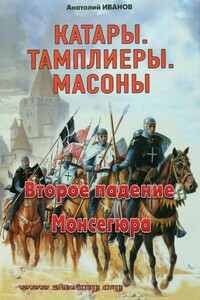К идеологии Реформации применимы слова Энгельса, который писал, что «всякое религиозное движение» является «формально реакцией, мнимым возвратом к старому, к простому»[79].
Ранние христиане и реформаторы воспринимали один и тот же миф, строили свою идеологию как рефлексию над одним и тем же рассказом, но воспринимали по-разному, и результаты получились разные.
Раннее христианство развивалось к католицизму и православию. Папство, монашество, культ девы Марии – все это было не позади, а впереди, и хотя несомненно, что и католицизм, и православие противоречат раннему христианству, несомненно и то, что раннехристианская идеология несла в себе их зародыши.
Реформаторы воспринимают тот же миф, но с сознанием, обогащенным полуторатысячелетним историческим опытом и новым уровнем знаний. И это дает им возможность прочесть старый рассказ по-новому, увидеть в нем ранее не осознаваемые потенции и «извлечь» их, сделав достоянием новых, устремленных в будущее исторических сил. Идеология Реформации – возвращение вспять, но возвращение на новом, «высшем» уровне, на новом витке исторической спирали. Именно поэтому Реформация смогла развить и усилить аформалистические потенции, заложенные в христианской мифологии.
Излагая отдельные аспекты идеологии Реформации, мы все время указывали на противоречие аформалистических и догматических тенденций этой идеологии – противоречие идеи непостижимости бога человеческим разумом и идеи ясности и однозначности смысла Библии; идеи невозможности добиться спасения собственными усилиями и идеи необходимости строгого исполнения однозначных этических предписаний; полного разведения «видимой» и «невидимой» церквей и их нового «сведения».
Это в какой-то степени выражение непоследовательности, отступления реформаторов от собственных принципов. Однако здесь дело не только в непоследовательности, но и в парадоксальном характере идеологии, провозгласившей аформалистические принципы. Провозгласив эти принципы, реформаторы как бы обрекли себя на поиски «квадратуры круга», на выработку формулы для отрицания формул. А это означало, что они и их последователи, делая упор на своих формулах как на адекватном выражении аформального содержания, должны были в какой-то мере повторять путь от раннего христианства к католицизму.
Вначале в эволюции идеологии Реформации на первый план выступают формалистические, догматические тенденции. Как ни стремились реформаторы следовать лишь Библии, необходимость учить и полемизировать требовала какой-то «рационализации» евангельских мифологем. Но последняя уже означала создание своей догмы.
Иисус сказал на тайной вечере о хлебе и вине: «Это – тело Мое и кровь Моя». Католицизм создал по этому поводу сложное учение о транссубстантизации. Лютер отверг его как пустую выдумку человеческого разума. Однако вынужден был предложить собственное толкование и выдвинуть формулу «консубстантизации», формулу опять-таки не библейскую. Против нее поднялся Цвингли и другие реформаторы, тут же окрестившие Лютера и его сторонников «богоедами» и трактовавшие причастие как чисто символическое, «воспоминательное» действие. Это в какой-то степени напоминало теологические споры в древнем христианстве, приведшие к возникновению разных церквей (например, православных и ариан).
После смерти Лютера и Кальвина происходят процессы, еще более сходные с развитием христианства в период становления его догматики.
В лютеранстве начинается спор «филиппистов» (сторонников Филиппа Меланхтона) и «гнезиолютеран», а затем борьба внутри последних. В кальвинизме – борьба «ремонстрантов», арминиан и ортодоксов. Как и в древности, догматическая полемика «накладывается» на борьбу клик и социальных групп.
Сходны и формы решения догматических проблем. В древности – это вселенские соборы, принимавшие догматические формулы символов веры. В новое время борьба арминиан и ортодоксов разрешается победой ортодоксов на громадном, общекальвинистском («вселенском») Дортском синоде 1618–1619 годов, а борьба разных партий в лютеранстве – принятием в 1580 году развернутых синодальных определений «Книги согласия».