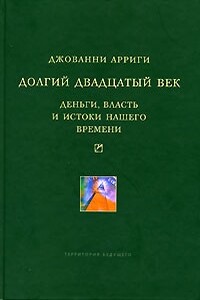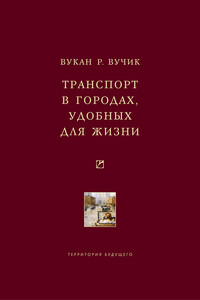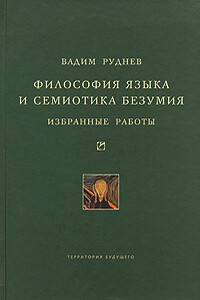Так, крайний фатализм одним из «оборотов» мысли реформаторов превращается в безудержный активизм, отрицание сакрального значения каких бы то ни было действий – в сакрализацию человеческой деятельности в целом, всех ее сфер, всех «ролей» человека. Как говорил Кальвин, святые, т. е. спасенные, «что бы они ни ели и ни пили… тем самым – в еде, питье и даже в войне – приносят чистую жертву Богу»[67].
Что конкретно должен делать человек в бесчисленных этических ситуациях, из которых состоит его жизнь, никакие книги и личности, никакие моральные трактаты и духовники указать ему не могут. Каждый раз он должен обращаться к своей этической интуиции, к своему интернализованному нравственному идеалу и оценивать ситуацию под этим углом зрения. Ответы каждый раз будут разные, зависящие от особенностей и самого человека, и ситуации. Постоянен лишь общий принцип ответа на подобные вопросы: человек должен делать столько, на сколько у него хватает силы, и то, что максимально служит богу и людям. «Христианин, – пишет Лютер, – самый полный господин всего, никому не подвластный». Одновременно он – «последний слуга всех и подвластен всем»[68]. «Он (христианин. —Д. Ф.) будет и поститься, и трудиться ровно столько, сколько он считает нужным для подавления похоти своей плоти»[69].
И поскольку идеал, к которому устремлен «спасенный», все равно не реализуем, любое нравственное решение носит характер нравственного компромисса. Можно сказать, что то решение, которое подсказывает ему совесть, это соответствующая его силам и особенностям ситуации степень компромисса.
При этом ответы, подсказываемые совестью, не только каждый раз разные, но и всегда неабсолютные. Вера не уберегает от нравственной ошибки, как она не уберегает от ошибки вообще. «Похоть плоти» не исчезает в спасенном, его поврежденная природа не меняется, и голос его совести всегда будет доходить до него сквозь искажающую призму поврежденной природы. Поэтому нравственное решение – решение «перерешимое».
Но хотя оно не абсолютное и перерешимое, оно предельно ответственное. Вера проявляется в голосе совести. Но, внимая ему, уясняя его для себя и переводя его на язык действий, человек также неизбежно искажает его, переводит неполно, неадекватно, как он неизбежно неполно, неадекватно переводит на язык рассудка интеллектуальную интуицию своей веры. А это значит, что как неадекватность теологической формулы может быть неадекватностью «перевода» верной интуиции – истинной веры, но может и означать, что веры – нет, так и неизбежная «неточность» этического доведения может быть следствием неточного уяснения и выполнения, требований верной нравственной интуиции, верной совести, а может быть и знаком, что совести-то и нет. Доводя эту мысль до конца, можно сказать, что каждый проступок может быть знаком того, что совершивший его не «спасен», обречен на гибель.
Таким образом, провозглашая бессилие человека, Реформация провозглашает одновременно (и не только «одновременно», но, рассматривая это в контексте ее идеологии, можно сказать, «тем самым») свободу нравственной интуиции и высочайшую нравственную ответственность.
Правда, и в этой сфере реформаторы непоследовательны, не идут до конца, останавливаются в страхе перед своей собственной логикой. И их можно понять. Грань между свободой нравственной интуиции и аморализмом – в высшей степени тонкая. Реформаторы уже при жизни могли наблюдать, как мюнстерские анабаптисты, вооружившись идеей «христианской свободы», первым делом провозгласили свободу многоженства и праздности. Вот почему, едва объявив войну католической моральной догматике и мелочной регламентации, реформаторы сразу же идут на попятный. Делают они это по-разному. Лютер заходит дальше Кальвина в проведении принципа этической свободы. Он не остановился даже перед признанием допустимости двоеженства (в случае Филиппа Гессенского). Но с тем большей силой он подчеркивал обязательность повиноваться вышестоящим и выполнять все светские законы. Свобода совести отделяется им от свободы поведения; отнятая у церкви функция сохранения порядка, ограничения хаоса и произвола этических интуиций решительно передается государству, монарху.