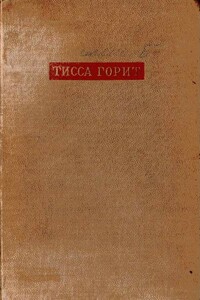Наменьские мальчики, которые не осмелились или не могли переплыть Тису, громко смеялись надо мной, над тем, что за свою храбрость и умение плавать я получил пощечину.
Но Илона не смеялась и смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
Когда стемнело, мы опять сидели вдвоем под старым тутовым деревом.
Илона не говорила, молчал и я.
Илона начала первая.
— Ты не боялся, когда был на середине Тисы один? — спросила она.
— Я был не один, — ответил я дрожащим голосом, — я думал о тебе.
Илона не ответила. Я смущенно взял ее маленькую горячую ручку и коснулся губами василькового венка на ее волосах. Она поцеловала мои глаза.
— Ты вернешься? — спросила она.
— Вернусь!
— Обещаешь?
— Обещаю.
Если бы тогда какая-нибудь золотоволосая русалка предсказала нам на ухо будущее, мы оба подумали бы, что это говорит мерзкий старый Бочко. Ведь кто же другой, как не он, мог выдумать, что, когда через десять с лишним лет я вернусь в Намень, Илона Варади натравит на меня собак. И на мне будет тогда запыленная, порванная шинель, на ногах — грубые, дырявые башмаки, а на голове — пропитанные кровью бинты; я где-то оставлю винтовку и потащу к Тисе истекающего кровью раненого Яноша Фоти. И когда я обращусь к ней: «Дай мне стакан воды!» — она, дочь старосты Варади, покажет туда, где в мутной речной воде плавают разбухшие трупы красноармейцев, и скажет: «В Тисе воды достаточно».
… В том далеком будущем румынские артиллеристы обстреливали Намень, которую командир дивизии Микола Петрушевич защищал с помощью только нескольких десятков красногвардейцев-русин…
На обед мы ели уху с красным перцем, уху, сваренную в воде из Тисы. Ужин тоже состоял из ухи.
— Уху с красным перцем по-настоящему умеют варить только в двух местах, — сказал староста Варади, — в Сегеде и в Намени.
Уху надо ополоснуть вином, так как, по убеждению венгров, рыба, попавшая в желудок, хочет опять плавать, но на этот раз в вине.
— Пусть плавает! — говорил староста Варади, снова и снова наполняя стаканы.
Старый, сутулый тисайский рыбак слабым, дребезжащим голосом рассказывал старые, старые были. Самым молодым из его героев был живший двести с чем-то лет тому назад Тамаш Эсе. А самым старым — некий витязь Кючю, который во времена короля Петера [21] один утопил в Тисе сто немцев в железных панцирях и сто итальянских священников, одетых с ног до головы в черное.
До поздней ночи слушали мы рассказы о чудесных подвигах венгерских предков.
Потом легли спать в доме старосты Варади.
Встали поздно, пришлось остаться обедать.
После обеда наконец отправились домой.
За первую половину дороги отец не проронил ни слова. Когда он наконец заговорил, то обратился не ко мне, а скорее выразил свои мысли вслух:
— Подумать только, что несколько лет назад наменьцы пырнули ножом агента по продаже хлеба, осмелившегося сказать, что в правительственной партии тоже могут быть честные венгры. А теперь… теперь и слепой видит: если Ураи не достанет им разрешения на разведение табака, то на следующих выборах вся Намень будет голосовать за правительство.
— Партия независимцев не нуждается в голосах тех, кто за деньги готов продать свои убеждения, — сказал я.
— Берегсас уже продался черту, — ответил отец. — Если теперь и Намень отпадет, то заколеблются и деревни Вари, Папи, и тогда…
Он закончил фразу глубоким вздохом.
— На месте Ураи я даже не принимал бы голосов наменьцев!
— Ты еще мальчик, Геза. Не понимаешь дел мирских.
— Да, — сказал я, — действительно не понимаю, чем наменьцы лучше тех, которые просто за деньги отдают свои голоса за кандидата правительства?
— Лучше, — ответил отец не совсем уверенно.
— И чем такие венгры, — спросил я теперь воинственно, — лучше тех русин, которые голосуют за своего русинского кандидата, даже когда наверняка знают, что за это их посадят в тюрьму? Не лучше, — ответил я себе, — а хуже.
— Лучше, сынок, куда лучше!
— Чем же они лучше?
— Лучше, — повторял отец. — Поверь мне, сынок, лучше. Даю тебе честное слово, — а ты знаешь, я зря своим честным словом не бросаюсь, — даю тебе честное слово, что венгры — самый лучший народ на земном шаре!