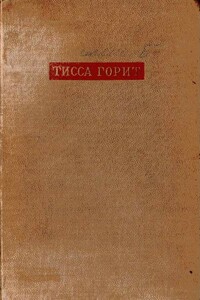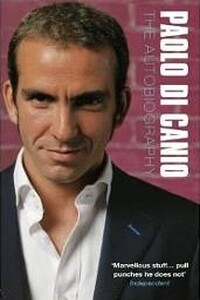Когда в подвале ко мне протянулось сто рук, я все еще не знал, успел ли. Когда я сказал, кого ищу, передо мной в толпе образовался коридор, и человек десять позвало меня: сюда, сюда!
Мать лежала на соломенном тюфяке в самом дальнем углу подвала. Под головой у нее (под маленькой головой, обрамленной серебристо-белыми волосами) была сложенная черная матерчатая юбка. Худое, почти детское тело покрывал черный крестьянский платок. Глаза были закрыты. Бледные губы сжаты. Уже несколько дней она спит. Так мне сказали, но я понял, что она в обмороке, потеряла сознание от голода. Несколько дней ничего не ела. И теперь медленно умирает…
— Я — врач, — произнесла пожилая женщина в крестьянском платке. — Я не раз осматривала тетушку. Ее нельзя беспокоить! Она уснет тихо, без боли. Быть может, еще сегодня, быть может, даже…
Я молча стоял у соломенного тюфяка.
Первомайский не понял слов, но понял их смысл. Он опустился на колени рядом с тюфяком. Подержал зеркальце у лица матери. Затем смочил водкой безжизненное лицо, потер виски и водкой же смочил худые, маленькие руки.
Капитан Матюшевский прижал к бледным губам матери алюминиевую флягу:
— Товарищ майор, — повернулся ко мне Матюшевский, — разрешите съездить в Кишпешт за врачом.
Пока мы ждали врача, Первомайский нарезал ли куски хлеб, который мы принесли с собой. Люди, получившие от Первомайского кто четверть, кто полбуханки, не верили своим глазам. С робостью протягивали они руки за хлебом. И, только убедившись, что он не тает в руках, радостно и громко кричали:
— Хлеб! Хлеб! Настоящий хлеб!
Полковник медицинской службы Морозов тщательно осмотрел мать. Затем сделал ей инъекцию. Камфору с кофеином. На принесенной с собой спиртовке подогрел молоко. В молоко подмешал коньяку и ласково, но решительно влил матери в рот. Потом сделал новую инъекцию и заставил проглотить чайную ложечку мандаринового сока.
Десять минут спустя мать открыла глаза.
Через полчаса узнала меня.
Час спустя, уже начав понимать, что не грезит, она очень тихо, но твердым голосом произнесла, обращаясь к Первомайскому и Морозову.
…Венгры хороший народ! Это не они убивали и жгли, а те, кто сидел у них на шее, — говорила она с поразительной, ошеломляющей четкостью. — Вы должны помочь нам! Если вы поможете восстановить город и страну, вы найдете в венгерском народе очень хороших друзей.
Она погладила мою руку.
— Очень хороший народ венгры! — повторила она. — Потому у них столько врагов. Но ты должен понять, сынок, вы должны понять, сынки…
Над нашей головой — где-то на третьем или четвертом этаже — взорвалась граната. С потолка подвала густо посыпалась штукатурка. Свечи погасли. В руке Первомайского зажегся большой электрический фонарь. Яркий свет прорезал испуганную темноту.
— Нужно помочь, дорогие сынки! Вы должны помочь!
— Все будет, мама! — ответил вместо меня Первомайский.
— Будет молоко и масло, ветчина и икра, фрукты и кофе. Все будет, мама!
— Хороший это народ, очень хороший! — повторяла мать.
В освобожденном Будапеште в первые дни остро встал вопрос о продовольствии. Когда эта проблема несколько упростилась и в магазинах появилась картошка, для писателей, артистов и журналистов актуальным стал вопрос о кофе и чае. Я редактировал тогда одну из газет Советской Армии, и, поскольку советских газетчиков и писателей проблема кофе не очень волновала, у меня оказался избыток его. Разумеется, в претендентах на кофе недостатка тоже не было. Вот и сейчас ко мне вошла секретарша:
— Товарищ Иллеш, к вам пришла с письмом от Лайоша Зилахи [65] какая-то старуха.
— Пусть войдет.
Старуха передала мне письмо, в котором содержалась просьба дать кофе и чай Гизи Байор.
— А где же Гизи Байор? — спросил я.
— Гизи Байор — это я, — сказала старая, очень старая женщина.
— Вы? — спросил я.
И старуха, которой можно было дать не менее восьмидесяти лет, утвердительно затрясла головой.
Я от изумления обмер и поскорее распорядился дать просительнице кофе и чай, — я не в силах был видеть дрожащих рук знаменитой венгерской актрисы.
Дней десять спустя открывали какую-то художественную выставку и было объявлено, что вступительное слово скажет Гизи Байор. Меня усиленно приглашали, я всячески отговаривался, но все-таки пришлось пойти. И здесь я во второй раз увидел Гизи Байор. Поразительно! Это была просто другая Гизи Байор — красивая и совсем еще молодая. После выступления я подошел к ней, мы разговорились, и я спросил: какая из двух Гизи Байор, столетняя старушка или двадцатилетняя волшебница, настоящая?