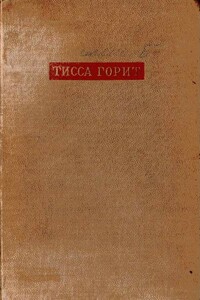Руководители двадцать восьмой партийной организации часами совещались в поленском лесу.
О создавшемся положении доложил Фельдман. По его мнению, работа пресвитерианских миссионеров и жатковичевская горячка означают, что если Пари хотел сделать из народа Подкарпатского края марокканцев, то некоторые американские круги захотели теперь сделать из них негров. Доллар уже пустил свои корни в Подкарпатском крае, и теперь если у организованных рабочих дело дойдет до конфликтов с властями, то против них выступят не только жандармы и полицейские, но и люмпен-пролетариат. Фельдман надеялся, что между американскими и французскими интересами, между американскими и французскими агентами скоро начнутся столкновения. Он предлагал нам оставаться в подполье до тех пор, пока эта внутренняя борьба не ослабит тяготеющего над нами нажима, и ограничиться пока лишь пропагандистской работой.
Монотонный доклад Фельдмана прерывался страстными репликами Миколы, который высказывался в пользу открытой борьбы. В таком же духе говорила и вдова Фоти, по мнению которой Фельдман недооценивал наши силы. Кестикало считал данную Фельдманом картину положения правильной.
— Мы только обманывали бы себя, если бы стали отрицать, что доллар пустил свои корни в Подкарпатском крае, что мы еще недостаточно сильны против нового врага, — сказал верецкинский финн.
Но в то же время он высказался за борьбу.
— Борьба начнется, — сказал он, — независимо от того, хотим мы этого или нет. И в этой борьбе прежде всего речь будет идти не о судьбах Подкарпатского края. Или, быть может, ты, Фельдман, думаешь, что на нас трудятся французские офицеры, приводя в порядок наши дороги? Или считаешь, что английская военная миссия приехала в Ужгород, чтобы пить с нами можжевеловую водку? Пока противник с большим шумом завоевывал позиции, мы теряли их и молчали. Теперь же мы должны дать бой, наращивая силы в ходе борьбы.
Фельдман упорно защищал свою точку зрения, но остался в меньшинстве. Для практической организации борьбы руководство выделило его, вдову Фоти, одного мункачского каменщика, ужгородского железнодорожника и меня. Мне и Анне Фоти было дано указание переехать в Ужгород за три дня до прибытия Жатковича. В нашем распоряжении оставалось очень мало времени.
Необходимо было действовать быстро. Буквально за несколько минут пришлось написать воззвание, в котором «Комитет рабочих и батраков» призывал народ Подкарпатского края забастовать в день приезда Жатковича, требуя дальнейшего повышения платы рабочим, освобождения политических заключенных, свободы слова и собраний. Полдня посвятили мы переводу воззвания. Но у нас не было чешского переводчика. Мне пришлось вернуться в Сойву. Там я полтора часа разговаривал с учителем Станеком. Я осторожно разъяснил ему, что означает шумиха вокруг Жатковича, и он откровенно возмущался теми, кто продает освобожденных славянских братьев американским банкирам. Когда я попросил его перевести наше воззвание на чешский язык, он сразу же согласился, поставив только одно условие: чтобы я, считаясь с его отцом, никому не говорил, что перевод сделан им. Я успокоил его, заверив, что забуду не только, кто переводил воззвание на чешский язык, но даже и о существовании воззвания вообще. Я быстро перевел текст на немецкий, а Станек с немецкого на чешский. К одиннадцати часам вечера рукопись была уже в Мункаче, у Фельдмана. Воззвание было набрано в одну ночь. Текст воззвания печатался на одном листе бумаги на пяти языках: русинском, венгерском, еврейском, чешском и словацком. Под утро Фельдман уже разослал готовые листовки по всем направлениям.
Спустя несколько часов все жандармы и полицейские были на ногах. Ходла устроил настоящую охоту за листовками. Некоторую часть ему удалось конфисковать, но тем больший интерес вызывали оставшиеся листовки, переходившие из деревни в деревню, из дома в дом. Вечером начались аресты.
Захваченного на улице Фельдмана всю ночь допрашивали легионеры. У него хотели выпытать, где, в какой типографии были отпечатаны листовки. Но прежде всего они пытались выяснить, кто перевел текст воззвания на чешский язык.