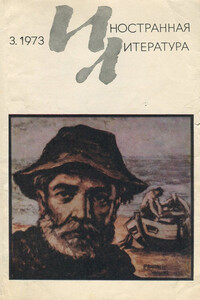И только добравшись до кладбища, я заметил, как прекрасна луна. Было светло, как днем. Страха я не чувствовал. Эта тишина и безмолвие, в которых, казалось мне, должно произойти что-то неожиданное — прогреметь выстрел, прозвучать крик или лай собаки, — вызывали во мне лишь легкую дрожь. Мы знали, что услыхать нас некому, и все же говорили шепотом, ступали на цыпочках, по временам останавливались и прислушивались. Такой покой и безмолвие царили повсюду, что казалось, будто находишься в потустороннем мире. Я спросил:
— Эх, Костикэ, что будет, если вдруг из могилы выйдет какой-нибудь нехристь и спросит нас, что мы здесь разыскиваем?
— Да ну его к дьяволу! Оттуда ему уже не выбраться.
Мы перебрались через стену и направились прямо вперед, отсчитывая шаги до большой надгробной плиты, отмеченной на плане. Отодвинули от стены в сторону камень и начали копать землю ножами. Только тот, кто когда-нибудь в полночь, тайком рылся в земле в поисках клада, может себе представить, как мы волновались в эти минуты, как лихорадочно торопились и дрожали. Многое было мною с тех пор пережито, много совершено злодеяний, немало испытал я страхов, но такого сердцебиения, как тогда, не припоминаю во всей своей жизни.
И вот когда мы копались в земле, вдруг раздался сдавленный выкрик Костикэ: «Нашел!» — и при свете луны он поднял и с торжеством показал мне кошелек. Послышался сладостный звон золота.
Весь обратный путь мы буквально летели. Казалось, наши ноги не касались земли. И, только когда мы очутились в номере гостиницы, один на один, где никто не мог нас подслушать и увидеть, мы придвинули свечу поближе, осторожно высыпали содержимое кошелька на белую простыню и принялись пересчитывать: тут были турецкие лиры, наполеондоры, полуимпериалы, червонцы и три ассигнации по сто лей. На долю каждого выпало по тысяче четыреста лей.
— Эх, черт! А сказал, будто здесь больше трех тысяч.
Я удивленно взглянул на Костикэ.
— Может, ты недоволен?
— Неплохо, — промычал он, — но знаешь… когда ожидаешь большего…
На следующий день, возвращаясь в Бисерикань, мы уже по дороге начали обдумывать и обсуждать план побега Миерлэ. В то же время мы выбрали из тюремной стражи самого меткого стрелка, предупредили его о возможности побега одного из заключенных и наказали ему стоять в карауле, на опушке леса, и быть все время начеку.
Сам я устроился на каком-то холмике позади караулки. Сердце у меня колотилось, как на охоте. Наконец я увидел, как Миерлэ выскочил из окна. Он был похож на зверя, вырвавшегося из клетки. Быстро оглядевшись кругом, он сразу же бросился бежать к лесу. Но не успел он сделать и десяти шагов, как прогремел выстрел. В ту же секунду Миерлэ словно споткнулся и упал на колени. Он попытался подняться, но вторая пуля настигла его и заставила снова упасть, затем он тяжело застонал, захрипел, стал медленно оседать на левый бок и, наконец, застыл — я бы сказал — в позе уснувшего от усталости человека.
Когда мы подошли к нему, он уже не шевелился. Около правого уха виднелось отверстие, как укол ножом. В углу рта висел сгусток крови и пузырек пены, в котором словно застыло его последнее дыхание.
«Вот что такое жизнь!» — мысленно сказал я себе, взглянув на него. Трудно было поверить, что в такое короткое время могла произойти столь ужасная вещь… Бедняга Миерлэ! Сколько раз впоследствии всплывал он в моих воспоминаниях, лежащий вот так на боку, с восковым лицом и вытаращенными глазами. Припал левым ухом к земле, будто прислушивается к шепоту, к зову, доносящемуся до него из недр земли.
И что нам принесла вся эта гнусность? Через два месяца, находясь в Бухаресте, я уже сидел без единого гроша за душой и замышлял новое преступление.
Дядя мой, уволенный со службы, приехал с бабушкой, и оба сели нам на шею. Вместо него директором тюрьмы в Бисерикань был назначен мой сообщник — субъект, которому, по справедливости, надлежало занять освободившееся в тюрьме место Миерлэ, этого вора, у которого мы, так называемые честные люди, самым подлым образом отняли и жизнь и деньги.
Вторник, 10 ноября… Прошел уже почти год, как я ничего не записывал. Быстро перескакиваю через факты, которые я и сегодня еще не в состоянии себе уяснить. О многом лишь догадываюсь. Душа слишком отягощена грехами, столько я натворил злодеяний. В одном я твердо уверен: дом наш был насквозь пропитан ложью и грязью, к которой мы все настолько привыкли, что она стала совершенно естественной.