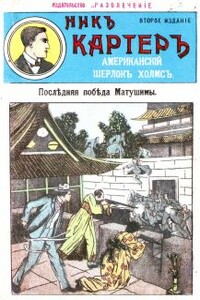Подавив вздох, я поплелся в маленькую гостиную. Но едва я увидел графа Ломбарди, как мое недовольство мгновенно улетучилось. Это был очень приятный человек, настоящий итальянец, очень смуглый и черноволосый, глаза его живо поблескивали за стеклами очков. Для друга моего отца он казался слишком молодым, но я сообразил, что мой-то отец выглядит старше своих лет, а гость, вероятно, выглядит моложе. Он приветствовал меня радостным возгласом:
— Маленький Мартино, какой же ты большой и сильный! Дай-ка мне посмотреть на тебя, мальчик. Ты меня, конечно, не помнишь. А мою мать? Она тебя так любила, когда ты был совсем крохой с беленькими кудряшками и забавно лопотал по-итальянски. Теперь ты, уж верно, ни слова не знаешь?
Я ответил, что снова выучился от одного моего друга, и перешел на итальянский. Он тотчас последовал моему примеру. Я рассказал ему, как быстро я восстановил свои знания, потому что в доме моего друга говорят только по-итальянски.
— Да, да. Папина голова! Но у тебя такой спортивный вид, а это уж точно не от него. А как тебе понравилось в Англии? Люди ничего, но все остальное… Особенно климат — туман, дождь, ветер. Ну, моя старая матушка будет в восторге, когда я ей расскажу, какой ты стал ловкий и сильный.
— Она ведь поет? Да? — спросил я вдруг.
Представление о его матери было у меня почему-то связано с птицами. Может, из-за имени? Или из-за пения?
— А ты еще помнишь? Вот она обрадуется! Да, у нее был прекрасный голос. Но теперь она совсем старенькая и, увы, инвалид.
Таким образом, мы провели по-итальянски целый разговор, и я был горд, что говорю так гладко, но вдруг я заметил, что отец, похоже, недоволен, хотя ни он, ни Агнес не произнесли ни слова.
А как было бы приятно посидеть с графом Ломбарди вдвоем и непринужденно поболтать о старых добрых временах.
Граф Ломбарди обернулся к отцу.
— Вполне крепкий, здоровый мальчик, — сказал он. Прозвучало это как похвала отцу. — Да, спорт — отличное средство, притом именно для людей, умственного труда, — добавил он. — Ты бы подумал на этот счет, мой дорогой друг.
Отец бегло улыбнулся.
— Для этого нужно иметь время, — сказал он. — Но боюсь, мы оторвали Мартина от уроков.
Он говорил по-французски, и граф ответил ему тоже по-французски.
— Конечно, конечно. Не буду тебя больше задерживать. Надеюсь, мой мальчик, ты сумеешь когда-нибудь навестить нас.
Он обнял меня с чисто итальянской сердечностью. По-моему, он сожалел, что не может подольше со мной поболтать. Мне тоже было жаль. Я украдкой бросил взгляд на отца. Он продолжал улыбаться, но меня-то его улыбка не могла ввести в заблуждение. У меня на этот счет выработалась интуиция. Когда я видел, как он улыбается кому-то (хотя его улыбка была неизменно любезна), я всегда знал, кроется ли за ней искренняя симпатия к человеку. Вот и сейчас я почувствовал, что он хочет, чтобы я ушел. По-моему, я понял и причину: ему не понравилось, что граф Ломбарди в разговоре коснулся слишком многого из тех времен, о которых мне запрещено было думать.
И я ушел.
Два дня спустя у нас в виде исключения к обеду не было гостей. Когда мы втроем сидели за десертом, отец вдруг спросил меня с какой-то незнакомой агрессивностью в голосе:
— Что это за мальчик, у которого ты научился итальянскому? Нужно ли тебе, кроме твоих занятий в школе, изучать еще и итальянский? Подружился бы лучше с французским мальчиком. Тебе надо в совершенстве знать французский язык.
В первую минуту я онемел. Я не верил своим ушам. И каким тоном это было сказано! Потом я объяснил, что не изучал язык, что просто мы с Луиджи разговариваем между собой по-итальянски.
— Он учится со мной в одном классе. Отец у него французский журналист, а мать итальянка…
Я запнулся и вдруг почувствовал, что по-настоящему взбешен. Совсем недавно он похвалил меня за то, что я так свободно говорю по-французски. И вдруг такое несправедливое замечание. Хуже чем несправедливое. От товарища я бы такого не потерпел.
Поборов в себе застенчивость, которую я испытывал неизвестно почему, так как обычно отец был со мной дружелюбен и уступчив, я язвительно заметил: