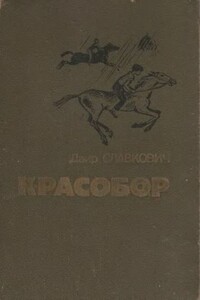Ларькин митинг с призывом «Даешь домой!» подбодрил на короткое время. Утром, проснувшись на своих тощих тюфячках, под легкими одеялами, на которые ночью каждый наваливал для тепла всю свою одежду, они с раздражением, уныло вспоминали митинг, который теперь представлялся сплошным обманом… И все-таки надеялись: а вдруг Ларька что-нибудь придумает?..
Меньших ребят все чаще приходилось чуть не силой поднимать с тюфячков. Они спрашивали:
- А зачем вставать?
- Что же ты, так и будешь лежать?
- Так и буду. Все равно есть нечего, делать нечего…
Вставали только на уроки. Этот закон еще держался.
Над тем, кто пробовал бросить учить уроки, зло и жестоко издевались, даже били. Считалось, что такой - слабак, ничтожество. Тем более что в каждой группе находились ребята, на которых остальные равнялись.
- Была бы вода, - говорил в младшей группе Миша Дудин, вскакивая с тюфячка и поеживаясь так весело, будто холод доставлял ему редкостное наслаждение.
- На что она, - вяло отвечали ему, выбираясь из-под наваленных одежд.
- Без пищи человек может прожить знаешь сколько? Ого! Сколько хочешь! А без воды и двух дней не проживешь. Вот дождь идет - и хорошо, воды больше будет. И снег пусть - все равно вода, нужная…
- Аш два о, - говорили с некоторым уважением.
И вспоминали, что сегодня как раз химия. Начинали шелестеть учебниками…
И это утро началось так же. Но потом по приюту пошел тревожный говор: «Прискакали казаки! Забирают Ларьку и Николая Ивановича…» Все кинулись к окнам.
По двору, на сытых конях, разъезжали, как завоеватели, меднорожие казаки. Посмеивались, замахивались нагайками. Двое вели Николая Ивановича, подталкивая впереди Ларьку. В стороне вернувшийся с казаками Валерий Митрофанович взирал на все это с жадным любопытством.
В потрепанном, измызганном сюртучке, в черной косоворотке, застегнутой на все пуговицы, в разбитых ботинках, Николай Иванович выглядел как бродяга.
- Кто таков? - гаркнул на него казачий офицер.
- Учитель Петроградской седьмой гимназии.
- Так это ты, большевицкая морда, устраиваешь тут красные митинги, агитируешь за Питер и Москву, где жиды засели? Тащи его, ребята!
Тут же с крыльца кубарем скатились Аркашка, Гусинский, Канатьев и еще некоторые ребята - между ними и Миша Дудин, конечно.
- Эй, эшелонские! - призывал Аркашка. - Наших бьют!
Приют загудел, как улей… Ребята посыпались отовсюду, но казаков было все-таки человек двадцать, все на конях, вооруженные… Они хлестали тех, кто оказался ближе, нагайками, а то и шашками - пока плашмя…
Тут в казачьего офицера угодил первый камень. Он обернулся и увидел в двух шагах Катю. Она подхватила новый камень и прицеливалась дрожащей рукой, громко говоря:
- Так будет с каждым, кто нападает на детей!
- Перепороть! - скомандовал офицер. - Всех!
И казаки, сгрудив коней, нахлестывая нагайками, стали загонять орущих ребят в приют.
Тогда на крыльце появилась величественная женщина. Она медленно шла, гордо откинув седую голову, в великолепном, шитом блестками, платье. Остановись над первой ступенькой, женщина подняла к строгим глазам черепаховый лорнет и, увидев казачьего офицера, жестом приказала ему подъехать. Даже ребята не сразу узнали в этой удивительной женщине Олимпиаду Самсоновну…
- Что здесь происходит, есаул? - резко спросила она. - И почему вы не явились ко мне, раз удостоили нас своим визитом?
Он невольно спрыгнул с коня, невольно отдал честь. Ничего подобного он явно не предполагал встретить.
- Отставить, - бросил есаул сквозь зубы своим казакам.
Порка отменялась. Нагайки исчезли. Кони отступили. Лупоглазые, меднолицые казаки с испугом дивились на Олимпиаду Самсоновну.
Однако у есаула было предписание на арест Николая Ивановича и Ларьки. Ссылаясь на то, что его отряд подвергся нападению, он требовал также ареста Аркашки и Кати…