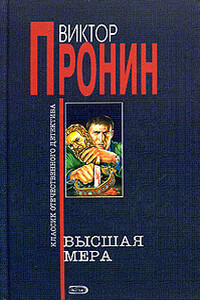Так вот, запустив окурок в форточку, Мазулина осторожно вынула из пьяных рук мужа общую тетрадь, под диваном нашла еще одну, остальные лежали в ящике. Завернув их в газету и перетянув шпагатом, она отнесла сверток к соседке и попросила сложить все в дальний угол и забыть об этом. Поскольку времена немного изменились и теперь мало кто ожидает расстрела за странные пакеты или неосторожные записи, соседка охотно согласилась. Вернувшись, Мазулина бестрепетной рукой вложила Федору в руки совершенно чистую тетрадь. Точно такую же бросила под диван, еще несколько положила в свой ящик. Потом сходила на балкон, выбрала там две бутылки из-под водки поновее, плеснула в каждую из них из той бутылки, которая валялась недопитая, и все три разбросала у дивана. И, словно бы устав от этой работы, ушла в ванную.
Вернувшись через час, посвежевшая, с блестящими глазами, возбужденная холодной водой и задуманной провокацией, предстала перед Федором. Тот сидел на диване, спустив босые ноги, и тяжело смотрел на россыпь бутылок. Не обращая внимания на жену, он поочередно поднял каждую из них, понюхал плескавшиеся на донышке остатки водки и со стоном опрокинулся на диван. Но тут же вскочил и, нащупав под собой тетрадь, раскрыл ее. И тут же с его лицом произошло нечто странное — оно вытянулось, и на нем застыло изумление, которое иначе как идиотским никак назвать нельзя. Он пролистнул тетрадь в одну сторону, в обратную, но, не увидев ни единой буквы, с неожиданной сноровкой соскользнул с дивана и запустил под него руку. Нащупав тетрадь, он с сопением вытащил ее, убедился в том, что она непорочна, как и предыдущая, сел на пол, прислонившись спиной к ребристой батарее парового отопления. Но снова вскочил и с грохотом выдвинул ящик — под трусиками и лифчиками невинно лежали чистые тетради.
— Что, дорогой? — спросила Мазулина. — Слегка расслабился? Неужели это все, — она повела глазами по бутылкам, — неужели в одиночку?
Федор не отвечал.
— Слушай, — сказал он через некоторое время. — Этот тип... У вас работает... Как его...
— Пафнутьев?
— Нет, какой, к черту, Пафнутьев... Ну, который все в курилке поет про девок молодых...
— Адуев?
— Во-во... Как он?
— Ничего. Работает. Поет. Сегодня, правда, не пел... Даже не знаю, в чем дело. Каким-то побитым выглядел.
— Побитым? — поднял голову Федор. — В каком смысле?
— В прямом... кто-то ему оба глаза подсинил.
— Надо же... — проворчал Федор, с ужасом оглядывая бутылки. — Надо же... А вообще, как ты к нему относишься?
— А как к нему можно относиться? — Мазулина передернула плечом. — Адуев он и есть Адуев.
— Да? Ну ладно... Какой-то я не такой сегодня. — Федор подозрительно посмотрел на жену и, кряхтя, направился в ванную.
Несколько дней он пребывал в глубокой задумчивости, от разговоров уклонялся, пиво с друзьями не пил, рано ложился спать. Отвернувшись к стене, долго сопел, и непонятно было, то ли раскаянием было наполнено его сопение, то ли обидой, но скорее всего ни то ни другое — Федор приходил в себя. К исходу недели он расписал стекло кухонной двери различными овощами, отдавая, как обычно, предпочтение свекле, морковке и репе — рисовать он их научился в детстве и внешний вид хорошо помнил. Еще через неделю, вернувшись с работы, Мазулина с изумлением увидела, что Федор с ясным взглядом и вдохновенным лицом расписывает на кухне кафелинки. На одной он поместил изображение все той же репы, на другой — морковки, в третьем квадрате, сами понимаете, свеклу. Рядом валялись книги по овощеводству. Похоже, Федор искал изображение других фруктов и овощей, внешний вид которых стерся в его памяти за последние годы.
Произошли изменения и у Адуева. Однажды он заявился на работу в черном костюме, белой рубашке и темном галстуке, что, по его представлению, должно было, видимо, означать нарядность, торжественность, праздничность. Во дурак-то, господи!
Пафнутьев, глянув на Адуева поверх очков, спросил с простодушием в голосе:
— Ты что, Ваня, с похорон?
— Чего это с похорон? — привычно переспросил Адуев, поскольку замедленность мышления всегда вынуждала его переспрашивать. Но Пафнутьев от пояснений уклонился, увлекшись инструкцией по использованию шлаков в народном хозяйстве. Адуев бросал на Мазулину стыдливые взгляды, краснел при разговоре, не в силах забыть сцены, которые столь красочно были описаны в общей тетради. На Восьмое марта он даже не постоял перед расходами и купил Изольде комнатные тапочки, решив, что в этом подарке есть и теплота, и забота, и даже намек на некоторую интимность. Купить цветы Адуев не решился. По его понятиям это было бы слишком уж вызывающе, на грани безнравственности. А кроме того, вам известно, сколько стоят цветы на Восьмое марта?