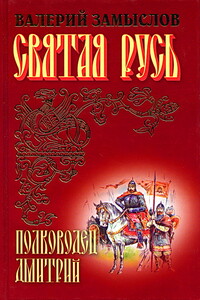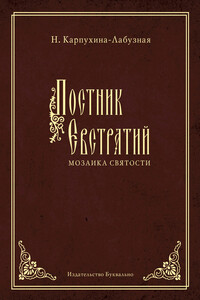— На смену едем, — утирая шапкой потное лицо, пояснил Аникей. Глянул на Карпушку, покачал головой.
— Никак худо тебе?
— Худо, служилый. Света божьего не вижу.
— То от бессытицы. Ну да ничо, выправишься, ныне с хлебом будешь.
Вешняк указал на Хлебную избу и повернул коня к воротам. Бросил на ходу:
— Ночевать — ко мне!
Перед Хлебной избой было не столь многолюдно. И часу не прошло, как мужики оказались перед дьяком. Силантий Карпыч самолично доставал из кожаного мешка серебряные копейки и важно, сановно приговаривал:
— Великий государь жалует. Молитесь за царя Бориса Федоровича.
Поклонившись дьяку, мужики направились к житным амбарам. У ларей, впереди Афони, очутился рыжебородый, угрюмого вида мужик в драном зипуне; дырявый войлочный колпак надвинут на самые глаза. Мужик топтался в очереди букой, ни с кем в разговоры не вступал. У ларей суетились шустрые весовщики с деревянными бадейками. Сыпали в сумы и торбы жито, поторапливали:
— Отходи! Чей черед?
Подошел черед рыжему мужику; вынул из котомы свою бадейку, коротко бросил:
— Сыпь.
— Чего ж не в котому?
— Сыпь!
Весовщик недоуменно глянул на мужика, растерянно поперхнулся, схватил у нищего бадейку и зачерпнул жита со стогом.
— Отходь… отходь, милок.
— Э нет, — усмешливо протянул мужик, высыпая зерно в ларь. — Сыпь своей мерой, мне чужого не надо.
— Отходь! Люди ждут.
— Подождут да еще спасибо скажут.
Мужик пересыпал жито из государевой мерки в свою бадейку и, сняв колпак, уселся на широкий приземистый стулец. Глянул на притихших весовщиков, вздохнул, молвил с укоризной:
— Грешно, милки, убогих проманывать. Почитай, на фунт обвешиваете. Грешно!
Прибежал подьячий, обомлел:
— Афанасий Якимыч!.. Гостенек дорогой.
Накинулся на весовщиков:
Вахлаки, недоумки! Да как же вы меру перепутали? Выгоню со двора!
Пальчиков поднялся, прошелся вдоль ларей.
— Буде скоморошить, Назар Митрич. Не мне пыль пускать. У тебя по всем амбарам меры перепутали. Глянь на хлебные сосуды. Что на четвериках и осьминах? Края сточены, обручи с клеймом сняты. А царь что повелел?
Подьячий, не срамясь мужиков, рухнул на колени: знал — ждет его тяжкое наказанье.
— Прости, Афанасий Якимыч! Не доглядел… С нерадивых сполна взыщу.
— Царь взыщет, — боднул подьячего колючим взглядом Пальчиков и пошел вглубь Житного двора.
— Вот те и рыжан, — одобрительно моргнул сосельникам Афоня. — Ишь, как кривду вывел.
— Отходи! — рыкнул на бобыля весовщик.
— А ты не шибко-то глотку дери. Привыкли народ объегоривать, — огрызнулся Семейка.
— Вестимо, — поддержали Семейку в толпе. — Плут на плуте, плутом подгоняет. Ишь, морду наел. На Съезжую надувал и обирох!
— На Съезжую!
Толпа загомонила, полезла к подьячему и весовщикам. Прибежали стрельцы, замахали бердышами.
Богородские мужики, бережно придерживая торбы, побрели к выходу. Карпушка, схватившись за грудь, вдруг с тихим стоном повалился наземь.
— Да что с тобой, голуба? — склонился над мужиком Шмоток.
Карпушка захрипел, на губах показалась кровавая пена; вытянулся и, не сказав ни слова, тихо преставился. Мужики сняли шапки, закрестились.
Глава 6
«И ЛЮДИ ЛЮДЕЙ ЕЛИ»
Малей Томилыч Илютин пришел из Поместного приказа усталый. Да и как не устать, коль дел до одури. Одних челобитных на пяти возах не увезешь. И пишут, и пишут! Кажись, нет на Руси помещика, дабы о нужде своей не пекся. «Обнищали, оскудели, мужики в бегах, кормиться не с чего…»
Худо на Руси!
Ни при одном государе такого лихолетья не было. На Москве страшно выйти, жуть что творится! В самом царевом Кремле нельзя без оружной челяди шагу ступить. Намедни, перед самой избой, из темного заулка набежали шпыни[11] с дубинами. Добро, ближние люди были с самопалами. Пальнули. Двоих бродяг убили. Тяжкое времечко!
Уж на что царь Борис башковит, да и тот растерялся. Мечется государь, о народе неустанно печется. У князей и бояр хлеб переписал и повелел продать по дешевой цене. Житницы пооткрывал, казны не пожалел. Сколь денег и хлеба на сирых ухлопал! А проку? Почитай, со всей Руси на Москву сбежались. Белокаменная будто муравейник кишела, голод еще боле за горло взял. А тут и чума навалилась. Что ни день — тысяча умерших. Пришлось Борису Федоровичу житные дворы закрыть. Народ на Москве поубавился, по Руси разбрелся да в разбойные ватаги сколотился. На царя и господ чернь поднялась. Борису Федоровичу не позавидуешь; хулит его чернь последними словами. Де, все беды от него, не нужон такой царь… О Дмитрии Углицком слух разнесся. Жив-де Дмитрий!