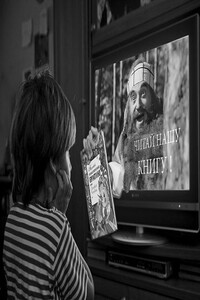— Самые массовые нарушения прав потребителей — в традиционной торговле. Чаще всего — споры по поводу товаров, которые в период гарантии оказались с дефектами. Общества потребителей составляют претензии продавцам о возврате денег за брак, а в случае необходимости предоставляют правовую помощь в суде. На втором месте — услуги жилищно-коммунального хозяйства. 20 лет эту сферу никто не реформировал, так и не созданы условия для технологической модернизации. Поэтому у нас ржавая вода течет из-под крана, смесители работают не больше 3—4 лет. Третья сфера — это финансовые услуги, потому что россияне заняли у банков уже порядка 6 триллионов рублей. Зачастую выдача кредита сопровождалась обманом: банк цинично скрывал информацию о стоимости кредита, особенно по картам или кредитам в точках продаж. В этой сфере россияне абсолютно не информированы до сих пор. По ипотеке дела обстоят немного лучше, там потребителей информируют, но есть другая проблема — запредельные проценты: 12—13 годовых — нереально для миллионов россиян.
— Какие уроки были извлечены россиянами и властями страны после кризиса 2008 года?
— Банкам запретили в одностороннем порядке повышать стоимость кредита, если ставка была фиксирована в договоре. Кроме того, приняли закон, который позволяет людям гасить кредиты досрочно. Вот и все. Это очень мало по сравнению с тем, что сделали американцы, которые приняли жесткие законы, регулирующие тарифы банков на те или иные услуги. Они создали государственное агентство по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг и уже давно заставляют банки на первой странице договора (а не как у нас — нечитаемым шрифтом в конце) указывать реальную процентную ставку по кредиту в годовых процентах. Этого требования у нас нет. У нас человеку не дают возможности в течение недели отказаться от кредита, если он передумал. Допустим, тот пришел домой, посчитал и понял, что ему не нужен мобильный телефон под 50 процентов годовых, который через полгода подешевеет вдвое. Отсутствие такой возможности показывает, что Госдума действует в отрыве от нужд людей. Только отдельные чиновники ведут борьбу в судах, например Геннадий Онищенко. Статистика споров Роспотребнадзора с банками показывает, что нарушений не становится меньше. Предмет споров — скрытые комиссии по кредитам, передача долга от банка сомнительным коллекторам. И эта борьба идет с переменным успехом. Ни правительство, ни Дума не справились с задачей изменить законодательство, чтобы вмешиваться не только в какие-то конкретные нашумевшие дела, а менять ситуацию в отрасли. Не хотят. Министерство финансов уже лет семь разрабатывает требования к потребительским кредитам, в частности, о том, как нужно информировать заемщика. За это время на бюджетные деньги можно было обучить в Лондоне даже какого-нибудь двоечника, чтобы он перевел похожий закон, действующий в Британии, и внес его на рассмотрение. Уже лет пять идут разговоры об абсолютно социальной, справедливой норме, позволяющей людям, потерявшим работу или близкого, либо семье, которая родила тройню, объявить себя банкротом и начать финансовую жизнь с чистого листа. Да, они лишились бы части имущества (но не всего!), и с них бы списали долг. Интересно, что при этом корпорации могут объявить себя банкротом и не расплатиться с персоналом. Бизнесмен может сказать: я извиняюсь, заберите мой галстук. И получит списание долга. А физическому лицу это недоступно. Должник в России — пожизненно должник. Даже тот, кого по всем законам общества нужно освободить от долга. Нельзя человека, который потерял работу, толкать на преступление или самоубийство. Тема банкротства физлиц была вынесена Роспотребнадзором на заседание президиума Госсовета под председательством тогда еще президента Медведева в январе прошлого года. Я докладывал этот вопрос. По предложению президента закон в очень хорошей редакции быстро приняло правительство и внесло в Думу. Однако после первого чтения депутаты не торопятся его рассматривать дальше или готовят поправки, которые сведут на нет все позитивные новации.