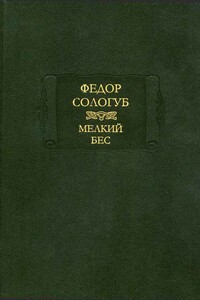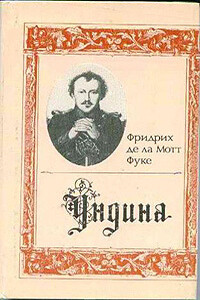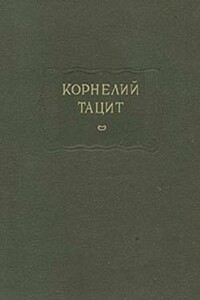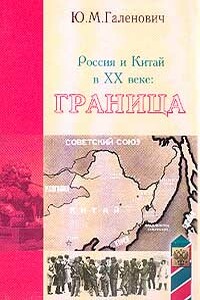История - страница 103
42. Немалую славу стяжал себе в этот день твоим красноречием и преданностью интересам семьи Випстан Мессала, который решился выступить, хотя не достиг еще даже сенаторского возраста[108], и умолял о снисхождении к своему брату Аквилию Регулу[109]. Регула, хитростью и коварством погубившего семьи Крассов[110] и Орфита[111], люто ненавидели. Еще юношей он по собственному почину выступил в роли обвинителя, причем, как все считали, ему тогда ничто не угрожало и толкало его на этот путь одно лишь желание выдвинуться[112]. Если бы теперь сенат начал рассматривать его дело, на него немедленно обрушилась бы месть вдовы Красса Сульпиции Претекстаты и ее четверых детей. Поэтому Мессала не стал говорить ни о самом деле, ни об обвиняемом, а просто защищал попавшего в беду брата и уже разжалобил кое-кого из сенаторов, когда Курций Монтан[113] резко прервал его и предъявил Регулу чудовищное обвинение: после гибели Гальбы Регул якобы заплатил убийцам Пизона, и когда те принесли ему голову жертвы, яростно впился в нее зубами[114]. «К этому уж во всяком случае Нерон тебя не принуждал, — продолжал Монтан, — и творить такие зверства не нужно было ни ради спасения жизни, ни ради сохранения своего положения. Да и довольно уже мы наслушались оправданий людей, которые предпочитали губить других, лишь бы отвести опасность от себя[115]. Тебе же вообще ничто не угрожало: отец твой был в изгнании, имущество поделено между кредиторами, сам ты — слишком молод, чтобы добиваться должностей, Нерону нечего было у тебя отнять и нечего тебя бояться. Ты был еще безвестен и ни разу еще не защищал никого в суде, но жестокая, алчная душа твоя уже жаждала крови честных людей; лишь когда ты сумел украсть с погребального костра республики достояние консуляриев[116], засунуть себе в пасть семь миллионов сестерциев и сделаться жрецом, когда получил возможность губить без разбора невинных детей, покрытых славой старцев и благородных женщин, когда смог упрекнуть Нерона, будто он действует недостаточно решительно, тратя свои силы и силы своих доносчиков на уничтожение одной или другой семьи, вместо того чтобы казнить разом весь сенат, — вот тогда ты почувствовал, наконец, удовлетворение. Спасите же, отцы-сенаторы, и сохраните в своей среде человека столь тонкого ума; да послужит он образцом всему нашему веку, и как старики наши стремились подражать Марцеллу и Криспу, так пусть наши юноши следуют примеру Регула. Подлость и в беде находит себе последователей, — что же будет, если мы дадим ей расцвести и набраться сил? Вы боитесь обидеть его, пока он еще только квесторий, так как же поднимется у вас на него рука, когда он станет претором и консулом? Неужели вы думаете, что Нерон — последний из тиранов? И после смерти Тиберия, и после смерти Гая люди тоже думали так, но всегда являлся новый тиран, еще более гнусный, еще более свирепый, чем прежние. Нам нечего бояться Веспасиана — он настоящий принцепс и по возрасту, и по умеренности, его возрасту подобающей. Но люди уходят, примеры остаются[117]. Мы слабеем, отцы-сенаторы; уж мы не тот сенат, который после убийства Нерона требовал наказать его подручных и доносчиков так, как наказывали подобных людей наши предки. Лучший день после смерти дурного государя — первый день».
43. Сенаторы с таким сочувствием слушали Монтана, что Гельвидий вновь загорелся надеждой свалить Марцелла. Он начал с похвалы Клувию Руфу, который ни свой выдающийся ораторский талант, ни свое огромное богатство ни разу во времена Нерона не использовал кому-нибудь во зло; говоря так, он не только изобличал Эприя, но и противопоставлял ему Клувия, чем еще больше возбуждал гнев сенаторов против доносчика. Почувствовав общее настроение, Марцелл поднялся, как бы собираясь покинуть курию. «Мы уходим, Приск, — сказал он Гельвидию, — и оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не смущаясь присутствием Цезаря». За ним следом двинулся Вибий Крисп; оба были одинаково полны ненависти, но выражением лица резко отличались друг от друга: Марцелл смотрел грозно, Крисп широко улыбался