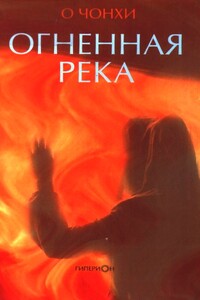Вовка целыми днями бегал по зданию со своим приятелем Андрюшкой Лукановым, сыном Карло Луканова, в закрытой для посторонних половине, выходившей во двор. Потные, красные, они, запыхавшись, забегали на минуту в нашу комнату что-нибудь схватить поесть и бежали дальше. Мама жила потихоньку, отходя от пережитых потрясений и еще не веря, что начинается совершенно иная жизнь. Заботой ее было накормить нас, за руку отвести Вовку в школу и забрать оттуда. Все первые три года, где бы мы ни жили, мама дважды проделывала этот путь в школу – отводила, потом забирала.
Я старательно делала уроки, становилась отличницей, читала… и все время слышала гул, сотрясающий стены. Однажды я спустилась вниз, завернула за угол и оказалась в незнакомом месте. Я попала в комнату, где сидело много девушек – это была телефонная станция ЦК. Все девушки были в наушниках, перед ними была стена, утыканная гнездами, куда они то и дело вставляли какие-то шпульки. Девушки непрерывно что-то говорили в трубки, слушали, быстро переставляли шпульки из одной ячейки в другую, и по молниеносно мелькавшим рукам, отрывистому говору можно было судить о напряженной работе в доме.
Однажды на чердаке вдруг появился незнакомый человек, непохожий на озабоченных людей вокруг, от него веяло радостью и добротой. Черноволосый, с усами, белозубый, он стоял и улыбался, а в руках держал ящик с лимонами. Я даже испугалась – одна белозубая улыбка среди черных усов. Дядя Петр – муж тети Оли, папиной сестры, – был первый человек «с воли»: из страны, в которую мы приехали, но о которой не имели ни малейшего понятия. Целый ящик лимонов я, к немалому удивлению всех и восторгу папы, съела одна, вместе с кожурой и без сахара.
– Ингочка, ты что, ешь лимоны без сахара? – спрашивал папа и смеялся. Он был доволен. – Как нуждается в витаминах.
– Без сахара.
Я съела их очень быстро, с кожурой, не разрезая ножом, как яблоко. А дядя Петр сел читать вместе с Вовкой букварь и, пролистав несколько страниц, сказал:
– Вера, Вова не умеет читать, он выучил все наизусть.
На нашем чердаке жила еще одна семья: мать с двумя детьми – Майей и Либкнехтом (Липкой). Имени матери я не помню, ее муж, вероятно, был расстрелян в 1937–1938-м у нас, она и сама была достаточно известная революционерка. Это была грузная, по моим понятиям, старуха, с крупной головой, вечно погруженная в свои мысли. Она мало бывала дома, проходила по нашему широкому со скошенной крышей коридору, не замечая никого вокруг, кажется, она была профессором, а может – просто преподавателем философии. Майю я не помню, а Липка, тоже не по летам грузный, лет на десять старше меня, где-то то ли учился, то ли работал. Доброжелательный, веселый, с ним было легко, он нравился маме и мне. Однажды, не справившись с задачей по арифметике (одна труба вливала в бассейн, другая выливала), я обратилась к нему за помощью. Он долго пыхтел.
– Нет, – сказал он, – без «икса» эту задачу не решить. Ты говоришь, вы не проходили «икс»?
Спустя много-много лет, я уже училась в Ленинградском университете, приехав в Софию на каникулы, услышала:
– Какой ужас! Умерла мать Липки, и теперь Липка и Майя судятся из-за наследства. Конечно, это их семьи – жена или муж – заставили, но какой ужас – брат с сестрой судятся!
Это было одно из тех замечаний мамы, которые врезались на всю жизнь – судиться нельзя, это ужас. Конечно, я и сама это знала, но слова мамы уничтожили даже секундное колебание: после смерти мамы, а впоследствии – смерти папы, я отказывалась от их наследства. Все досталось брату. Судиться было нельзя, нельзя было даже просить. Хотя мысль, что я обделяю своих детей, мучила меня. Единственно, что я просила и в чем мне было отказано, – папины ордена. Даже сейчас, по истечении многих лет мне их не показали. Боюсь так подумать, но, возможно, что они утеряны.
Когда мы приехали в 1945-м, София была небольшим провинциальным городом. Магазинчики маленькие, темные, грязные, часто размером с комнату. Ни автобусов, ни троллейбусов не было, трамваев всего пять номеров. Дома отапливались печками наподобие «буржуек», практически отсутствовали ванные комнаты, ходили в турецкие бани, ничего похожего с нашими банями не имеющими. Посередине был бассейн, в который полагалось входить после того, как помоешься из маленького тазика, сидя на мраморном или каменном диванчике. Мыло, если и употребляли, то только в конце процедуры, а сначала терли себя рукавицей. Это называлось «снимать кир». Возникало ощущение поразительной чистоты. Но центр города был уютен и красив. Красив и величественен был собор Св. Александра Невского, расписанный Васнецовым, красивы были улицы Оборище и Шипка, с небольшими коттеджами, где жила раньше болгарская аристократия и где поселились в пустующих квартирах многие приехавшие из Советского Союза. Красивы были бульвары, застроенные в начале ХХ века, вероятно, одним-двумя архитекторами. Белые, с большими окнами, четырех-пятиэтажные дома были похожи, как близнецы, но, выстроившись шеренгой, один к одному, производили впечатление законченного ансамбля. Поражало обилие названий улиц, связанных с русской историей – Генерал Гурко, Граф Игнатьев, Генерал Скобелев, Шипка, Толбухин, – улицы, которые по утрам мыли толстой мощной струей из шланга. А за городом стояла гора Витоша – именно стояла, как одушевленная часть, душа. Да, София была провинциальна, но красива, и половину красоты ее составляла гора Витоша.