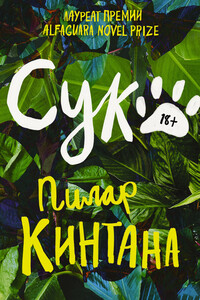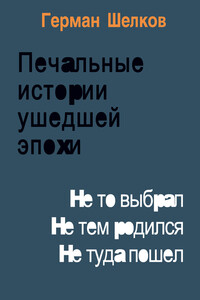* * *
Это история о войне. Она должна была быть о другом. Она начиналась как история любви, история супружества, но война налипла на нее со всех сторон, как осколки битого стекла. Это не обычная история о мужчинах на войне – она о тех, кто на войну не пошел. О трусах и уклонистах, о тех, кто позволил ошибке в документах воспрепятствовать исполнению долга, кто это увидел и не сказал, кто встал и отказался воевать, даже о тех, кто был слишком мал и не знал, что, когда придет его время воевать, он, как мой сын, сбежит из родной страны. История об этих мужчинах и о женщине в окне, которая могла только смотреть.
Все это я видела. Вот Холланд Кук – силуэтом в темном убежище и годы спустя на сером пляже, смотрит в море, которое его поглотило. Вот Уильям Платт в военной форме возвращается из Вирджинии, к нему бежит жена, а он отдает честь единственной рукой. Вот Базз Драмер, потирающий обрубок мизинца, и он же, убитый горем, в белом свете кинопроектора, приветствует возвращение своего безумия. Голос Сыночка по телефону, годы спустя, в день, когда ему пришла повестка. Увидев ее, я решила: «Этого я спасу». Отсрочу приговор одному мальчику, вытащу из-под колеса. Конечно же, мир без него обойдется. Конечно же, других достаточно.
Безумие – не делать как велено. Не выходить из укрытия, не отказываться от отсрочки, не делать шаг вперед из шеренги перепуганных юношей. Но поразительно, насколько люди разные. Не все они из одного теста, ведь, когда они попадают в горнило, кто-то из них дает трещину, а кто-то меняется так, как не может предсказать даже его создатель.
Трусы, уклонисты – где их солдатский доллар? Такой, как тот, что случайно дал мне Базз в нашу первую встречу у моря? Покрытый подписями девятнадцатилетних солдат, идущих на войну. Они сидели в барах, подписывали десятки купюр, расплачивались ими за выпивку и надеялись, что память о них будет жива, когда они отправятся на фронт, и будут воевать, и умрут за свою страну.
У мальчиков, не бывших на войне, ничего такого нет – они не солдаты, они не погибали. Их выжгли из истории, потому что ничто не жжет так, как позор. Никто не расплачивается их купюрами. Но я вписала их имена в мою историю. Я вписала все наши имена.
Как еще нас смогут вспомнить?
* * *
Пару дней спустя несколько трамваев увезли меня далеко от Сансета. Я была уже не Перли Кук, я была неизвестной в суконном пальто и с бантом, загадкой трамвайной линии, чернокожей девушкой, сжимающей сумочку, привыкшей быть среди чужих и ничего от них не ждущей. Вдруг трамвай остался без электричества, и вагоновожатому пришлось выйти и вновь подцепляться к проводам с помощью длинного шеста. Пока мы сидели в темноте, мужчина напротив окинул меня тремя взглядами: ноги, руки, глаза. Я могла быть кем угодно и ехать куда угодно. Ночная смена на фабрике, свидание в клубе, любовник на дальней окраине города. Трамвай ожил, засветился, а мужчина бросил на меня последний одобрительный взгляд, а потом вышел на остановке. На Перли Кук никто никогда не заглядывался, но тем вечером я была не я.
В бытность резервисткой я всегда хотела доехать на трамвае до конечной остановки, а теперь я жила в самом конце – что уж конечней океанского берега, – и поехала в обратную сторону, в центр, и, погруженная в сонное молчание, добралась до границы Чайнатауна и Норт-бич, туда, куда со времен Золотой лихорадки приходили моряки. Раньше это место называлось Барбари-кост. При мне уже нет, теперь это Интернешнл Сеттлмент – так было сказано, точнее, написано огромными металлическими буквами на арке над Бродвеем.
Священники давным-давно погасили красные фонари, так что район был и вполовину не столь злачным, как сто лет назад. Кофейни и бары были полны длинноволосых поэтов, бородатых радикалов. Одна особенно элегантная женщина, в приталенном пальто с рукавами фонариком и под вуалью с маргаритками, выглядела так, словно ее только что доставили из Парижа. Ее выдавали походка (чудовищно вульгарная) и глаза, высматривающие клиента. Она даже поймала мой взгляд и любезно оскалилась. Я не обиделась – в кафетериях на меня и хуже смотрели. Она прошла под вывеской дансинга («Мадам Дюпон: танцы пятьдесят центов») и растворилась в радиоактивном неоновом свете.