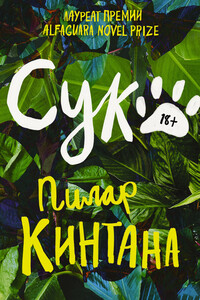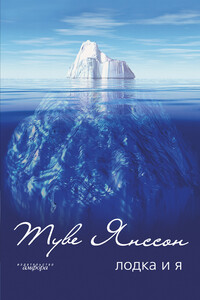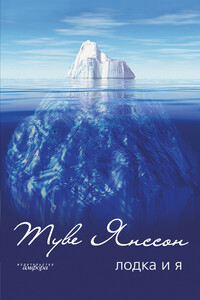Он не знал, что такое голод, – откуда ему? Откуда это знать нам всем, ноющим «умираю от голода» через час-два после завтрака? В Депрессию, а потом в войну, когда еда стала по карточкам, мы думали, что узнали. Но нет. Этих ребят в Миннесоте стали кормить в восемь утра и пять вечера, им давали капусту и картошку объемом меньше половины их привычных порций. Это продолжалось месяц, два месяца, шесть месяцев. Их тела усохли на четверть.
У голодающих людей одинаковое выражение лиц. Этот тупой апатичный взгляд вы видите на съемках из Африки, у бездомных на улице, и всего через два месяца у Базза стал такой же взгляд. Это называется «маска голода». Она появляется, потому что лицевые мускулы усыхают. Какие-то части тела худеют и становятся твердыми, например руки и ноги, а другие обвисают, например колени. Легкие слабеют, сердечная амплитуда сокращается, пульс начинает замедляться, хотя сама кровь разжижается, ведь тело непонятно почему накапливает воду. Одеваться становится трудно, открыть бутылку вожделенного молока кажется невозможным (злая ирония), даже книгу не получается удержать открытой достаточно долго, чтобы ее читать. Он рассказал мне, что узнал разницу между тоскливыми голодными болями и резкими внезапными спазмами. Иногда голод длится так долго, начисто опустошая все скрытые кладовые тела, что начинается предвестие старости: спина ссутуливается, фигура оседает. Двадцатилетний голодающий может испытать ощущение, которое вернется к нему не раньше, чем через шестьдесят лет: чувство, что он состарился. Интересно, чувствовал ли его Базз, когда действительно постарел? Вставал ли он, восьмидесятилетний, с кровати, с удивлением узнавая тот скрип суставов, ту дрожь старого тела, которые уже переживал в молодости?
Они перестали ходить на лекции, прекратилось катание на коньках и физкультура, они перестали делать все, но не могли перестать мечтать о еде, они воровали в ресторанах меню и изучали каждый пункт, как взломщики, планирующие ограбление. Глаза у Базза приобрели сухой блеск, позвоночник стал сегментированным, словно гусеница, а разум парил в цветном облаке, в северном сиянии. Он больше не мог ходить по беговой дорожке, даже несколько минут, и не потому что уставал или не хватало силы воли. У него просто не осталось мышц, чтобы двигаться. Он сказал, что чувствовал себя существом из детской книжки, неестественным, как ожившая по волшебству метла. Ему сказали, что его сердце уменьшилось до двадцати процентов от нормального размера. В результате голодания, конечно, но его спутанному сознанию это показалось логичным. «Это стало облегчением», – сказал он, ведь как кто-то мог его любить? И кого мог любить он сам?
* * *
– У вас здесь все в порядке?
Полицейский высунулся из патрульной машины. Опущенное стекло врезалось в его жирную подмышку. Видимо, компания из белого мужчины и чернокожих мальчика и женщины показалась ему необычной. Он обращался к Баззу.
– Все хорошо, – очень учтиво ответил Базз.
– Вообще-то это частная территория. Вам сюда нельзя.
– Я знаю хозяев. Мы потенциальные покупатели.
Полицейский покатал эту мысль у себя в голове, как шарик жвачки, пока наконец она, звякнув, не встала на место. Оглядел меня с головы до ног.
– Вам бы в другом месте землю поискать, – сказал он со значением, а затем посоветовал нам не задерживаться. Уезжая, он поднял похожее на джинна облако пыли.
Я не произнесла ни слова. Сквозь меня катились волны страха и ярости. Память о Кентукки.
– Уже поздно, – сказал Базз, закидывая пиджак на плечо и идя к Сыночку, который в последний раз шевельнулся во сне и открыл глаза. Базз подошел и взял мальчика на руки, а тот притворился спящим, как всегда делал с отцом. В воздухе вокруг нас висели картины голода. Дай ему, что он просит, подумала я. То, что хочет он, легко дать, а чего хочу я, я даже не знаю, хотя это вот – подойдет. Пятьсот акров, а вокруг забор. Пусть все закончится. Мужчина нес мальчика через волнующееся золотое поле и, проходя мимо меня, сказал: «Отвезем твоего сына домой». Пусть у каждого сбудется желание.