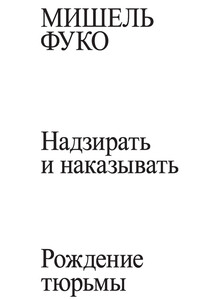Во всех странах Европы изоляция, по крайней мере первоначально, имеет один и тот же смысл. Она — один из откликов XVII века на экономический кризис, охвативший весь западный мир; возможно, что причиной кризисных явлений — снижения заработной платы, безработицы, обесценения денег — послужил упадок хозяйственной деятельности в Испании75. Даже Англии, стране, менее всего зависящей от общей экономической системы, пришлось решать те же проблемы. Несмотря на все меры, принятые во избежание безработицы и падения заработной платы76, число бедняков в стране постоянно растет. В 1622 г. появляется памфлет под названием “Grevious groan for the Poor”[28], приписываемый Деккеру. В нем обличается всеобщее легкомыслие перед лицом грозящей опасности: “Невзирая на то что число бедных увеличивается всякий день, все, что может облегчить участь их, оборачивается к худшему; многие приходы понуждают своих бедняков и неувечных рабочих, не желающих трудиться… попрошайничать, мошенничать или воровать, добывая себе хлеб насущный, и оттого вся страна пребывает в нищете и опустошении”77. Власти опасаются, что нищие заполонят всю страну; а поскольку они лишены возможности перебираться из одной страны в другую, как на континенте, то их предлагается “отправлять в изгнание и препровождать под конвоем во вновь открытые земли в Восточной и Западной Индиях”78. В 1630 г. король создает специальную комиссию для контроля за неукоснительным исполнением законов о бедняках. В том же году комиссия оглашает целый ряд “указаний и распоряжений”; в них предписывается привлекать к ответственности попрошаек и бродяг, а также “всех тех, кто коснеет в праздности и не желает трудиться за разумную плату либо расточает все деньги свои в кабаках”. Таких следует наказывать в соответствии с законом и помещать в исправительные дома; если же у них есть жены и дети, то следует убедиться, действителен ли их брак и крещены ли дети, “ибо живут подобные люди, словно дикари, не ведая ни таинства брака, ни погребения, ни крещения; и вот эта-то беспутная свобода причиной тому, что многие находят в бродяжничестве удовольствие”79. Несмотря на то что в середине столетия в Англии начинается некоторый подъем, при Кромвеле проблема эта все еще не решена: лорд-мэр сетует на “весь тот сброд, что стекается в город, нарушает общественный порядок, осаждает кареты и громогласно требует подаяния у церковных врат и у дверей частных домов”80.
Безработных и бродяг еще очень долго будут помещать в исправительные дома или в отделения Общего госпиталя. Всякий раз, когда в стране возникает кризис и резко возрастает число бедняков, восстанавливается, по крайней мере на время, и первоначальное, экономическое, значение изоляторов. В середине XVIII в. страна снова переживает тяжелый кризис: в Руане вынуждены побираться 12 000 рабочих, в Туре — столько же; в Лионе закрываются все мануфактуры. Граф д'Аржансон, “управляющий парижским департаментом и распоряжающийся конной стражей”, отдает приказ “арестовывать всех нищих по всему королевству; конные стражники исполняют дело это в деревнях; то же происходит и в Париже, куда, мы уверены, они не хлынут, будучи теснимы со всех сторон”81.
Однако вне кризисных периодов изоляция обретает иной смысл. Наряду с репрессивной функцией у нее появляется новая. В этом случае ее задача состоит уже не в том, чтобы держать под замком безработных, но в том, чтобы дать работу людям, которых держат под замком, а значит, заставить их трудиться на благо всех. Альтернатива понятна: либо использование дешевой рабочей силы — во времена полной занятости и высоких заработков; либо, когда подступает безработица, изъятие из общества праздношатающихся и социальная профилактика волнений и бунтов. Вспомним, что первые изоляторы возникают в Англии в наиболее промышленно развитых районах: в Вустере, Норидже, Бристоле; что первый “Общий госпиталь” был открыт за сорок лет до парижского в Лионе82; что первый в Германии Zuchthaus появился уже в 1620 г. в Гамбурге. Его устав, обнародованный в 1622 г., отличается большой четкостью. Все, кто в нем содержится, должны работать. Стоимость произведенной ими работы точно высчитывается, и они получают ее четвертую часть. Ибо труд — не просто времяпрепровождение; он должен быть производительным. Восемь управляющих составляют общий план работ. Мастер (Werkmeister) дает задание каждому в отдельности и в конце недели обязан проверить, как оно исполнено. Правило обязательного труда сохраняется до конца XVIII в.: Говард все еще констатирует, что “здесь прядут, вяжут чулки, ткут шерсть, конский волос и лен, зачищают рашпилем красильные доски, оленьи рога. Урок крепкого мужчины, зачищающего эти доски, составляет 45 фунтов в день. Несколько работников и несколько лошадей заняты на сукновальне. Здешний кузнец трудится без устали”83. В Германии у каждого из изоляторов есть своя специализация: прядут главным образом в Бремене, Брауншвейге, Мюнхене, Бреслау, Берлине; в Ганновере работают ткачи. В Бремене и в Гамбурге мужчины зачищают доски. В Нюрнберге шлифуют оптические линзы; в Майнце в основном мелют муку84.