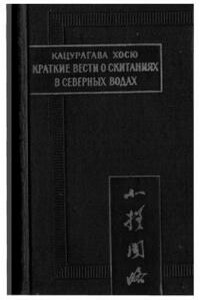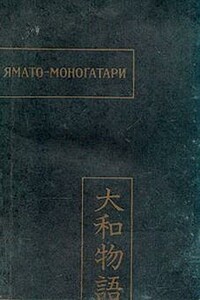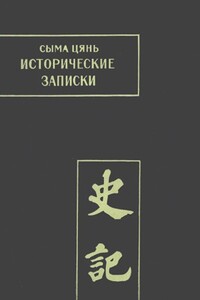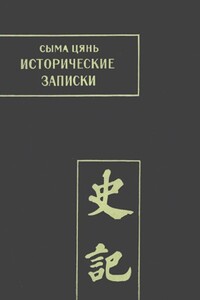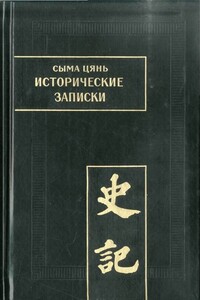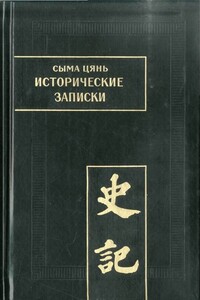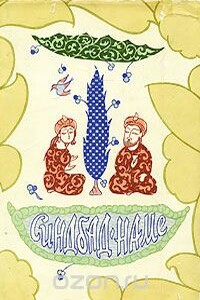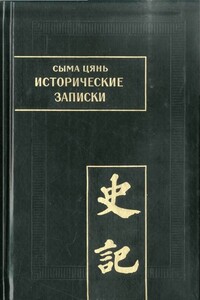Каково же отношение самого историка ко всему изложенному? Прежде всего отметим, что Сыма Цянь рассказывает о сложной системе ритуалов и жертв последнего периода не по письменным источникам и устным преданиям, как это он делал в отношении доханьских времен, а по собственному опыту и наблюдениям.
Разумеется, Сыма Цянь, верный своей повествовательной манере, стремится излагать историю верований и жертвоприношений последовательно и по-своему объективно. Ю. Л. Кроль говорит о двух несливающихся голосах историка: «Один из них — безличный «голос предания», призванный, по словам Сыма Цяня, «передавать события прошлого», другой — глубоко личный голос историка. Книга Сыма Цяня — арена взаимодействия этих двух голосов. У обоих голосов разные функций (предметные задания), эмоциональные окраски и [42] стилистические характеристики» [10, с. 48]. В отношении гл. 28 можно сказать, что в ее второй части эти два голоса действительно слились, ибо речь идет о событиях, в которых непосредственно участвовал Сыма Цянь и к которым он по ходу изложения выразил свое отношение.
Сыма Цянь, безусловно, верил во всемогущество духов, он был истинным «астрологом двора». Однако его неприязнь вызывали всякого рода шарлатаны и маги, к которым так благоволил У-ди, поэтому, рассказывая об их проделках, историк стремится подчеркнуть их неудачи, связанные с неумением дать «верное» предсказание.
Такого рода характеристики в конечном счете призваны помочь созданию портрета У-ди, написанного, очевидно, с критических позиций. Это отмечают некоторые комментаторы и исследователи «Исторических записок». Так, Чэнь Жэнь-си (XVII в.) писал, что «в «Трактате о жертвоприношениях Небу и Земле» осмеивается пристрастие У-ди к духам и небожителям...» [53, т. 11, с. 665], а Такэути Хироюки, специально исследовавший Фэн-шань шу, пришел к выводу, что в главе отражена внутренняя борьба разных групп чиновничества при дворе, в том числе борьба чиновников-конфуцианцев, которых как раз и представлял Сыма Цянь, со слепыми ревнителями древних традиций и магами. Такэути считает, что автор главы, «опираясь на религиозную практику династии Хань и растолковывая классические книги как предпосылки для создания идеальной теории жертвоприношений Небу и Земле, стремился нанести критический удар по части ханьского двора, слепо следовавшей за магами» [44, с. 108].
Материал главы свидетельствует о необходимости более осторожного и критического подхода к довольно прочно укоренившемуся представлению о полном господстве в идеологической сфере ханьского общества рационалистической конфуцианской доктрины, вобравшей в себя отдельные легистские постулаты и натурфилософские идеи (синтезированной Дун Чжуншу). Разумеется, в политической и хозяйственной деятельности общественного организма реализовались достаточно прагматические и действенные принципы управления, базировавшиеся не на космогонических и теогонических мифах, а на накопленном опыте и идеях рациональной мысли, выраженной в теориях Гуань-цзы, Шан Яна, того же Конфуция, Мэн-цзы и др., что хорошо видно на материалах гл. 29 и 30. Тем более это верно в отношении морали и этики. Несомненно и то, что от примитивного уровня исключительно мифологического восприятия окружающего мира древние китайцы ко II в. до н. э. сделали уже большой шаг к рационально-логическому пониманию и объяснению этого мира (об этом свидетельствуют успехи древней математики, астрономии, химии, строительного дела, а [43] также философии и истории). Однако в гл. 28 со всей очевидностью показано громадное значение примитивно-религиозных и мифологических представлений, сложный процесс их взаимодействия с реальной жизнью. Идейный мир ханьцев, таким образом, является вовсе не однозначно рационалистическим, хотя элементы рационализма были достаточно сильны в ханьском конфуцианстве.
Трактат Хэ-цюй шу — «Трактат о реках и каналах» — рассказывает о вполне практической созидательной деятельности насельников восточноазиатского региона по преобразованию своей земли в I тысячелетии до н. э., об огромных усилиях древних китайцев, направленных на усмирение рек и создание широкой системы ирригации. Глава основана на реальных фактах: Сыма Цяню удалось объехать основные районы с искусственным орошением, увидеть дамбы, плотины и другие сооружения, созданные древними умельцами, он представлял себе масштабы работ и трудности, с ними связанные; как и другие чиновники из свиты императора У-ди, историк был мобилизован для закрытия прорыва на р. Хуанхэ у Хуцзы, таскал хворост и бамбуковые фашины к месту прорыва дамб. Все это и позволило Сыма Цяню нарисовать достаточно полную и объективную картину.