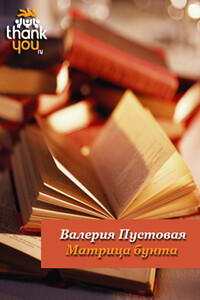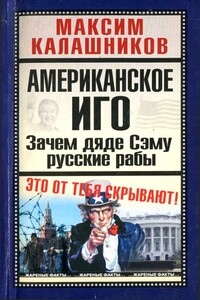XI
Национальный вопрос в России
Теперь мы могли бы кончить нашу речь. Но было бы странно, если бы мы не сказали хоть несколько слов о названной выше книге нашего противника; ведь в этой книге высказана та основная мысль, или, лучше, то основное настроение, которое побудило автора к спору и к тому, что он, наконец, схватился и за Рюккерта.
Источником всего дела, очевидно, была мысль о соединении церквей. Сильнейшее препятствие к такому соединению автор усмотрел в «национальной исключительности», которой будто бы заражены наши образованные и управляющее классы. Нужно было бороться с этим направлением, разрушать всякую веру в самобытные начала русской жизни. Но сильнейшей поддержкой этой веры оказалась литературная школа славянофилов, к которой причислял себя и сам автор. Нужно было отказаться от этой школы и употребить всякие усилия, чтобы уронить ее значение. Но наибольшим успехом из славянофильских писателей пользовалась книга Данилевского. Нужно было, сколько возможно, подорвать авторитет этой книги. Так мы и дошли до Рюккерта.
Вот цели «Национального вопроса», его внутренняя логика, сводящая все дело к отрицательной, или, пожалуй, порицательной задаче. Очевидно, это путь не прямой, и притом очень опасный. Мы часто забываем, что, как говорит пословица, чужими грехами свят не будешь. Пусть наши противники чернее сажи; из этого не следует еще, что мы сами очень белы, и что наше дело правое. Положительный и твердый путь, который предлежал нашему автору, казалось бы, был ясен. Именно, можно было пытаться идти дальше славянофильства, ничуть не отвергая начал этой школы, а только доказывая, что последовательное их развитие ведет к той же мысли — к соединению церквей. Разве славянофилы были против соединения? Они только утверждали, что западное христианство должно преклониться перед восточным, тогда как наш автор склонен думать наоборот, что Восток должен смириться перед Западом.
Вначале наш автор и шел по верному пути, то есть полагал славянофильство в основание своих соображений. Но потом дело приняло тот оборот, который мы указали. К удивлению, он поместил в своей книге, в начале, и те статьи, которые писаны еще в славянофильском духе, тогда как вся остальная книга состоит сплошь из полемики против старых и новых славянофилов. Отсюда произошло множество противоречий.
Так, например, сперва автор говорил: «Восточный вопрос есть спор первого, западного Рима со вторым, восточным Римом, политическое представительство которого еще в XV веке перешло к третьему Риму — России.
Не случайно, однако, второй Рим пал, и власть Востока перешла к третьему. Должен ли этот третий Рим быть только повторением Византии?»[24] и пр.
А потом, в той же книге сказано:
«Странствующие греческие монахи в отплату за московское жалованье подарили Москве титул третьего Рима с притязаниями на исключительное значение в христианском мире»[25].
Сперва у автора было что-то похожее на Божье соизволение, а потом это самое стало простой лестью забредших в Москву лукавых греков!
Еще пример. Сперва автор говорил:
«Россия XVI века, крепкая религиозным чувством, богатая государственным смыслом, нуждалась до крайности и во внешней цивилизации, и в умственном просвещении»[26].
А потом эта Россия изображается так: «Сложился в Московском государстве духовный и жизненный строй, который никак нельзя назвать истинно-христианским. Этот строй имел религиозную основу, но вся религия сводилась здесь исключительно к правоверию и обрядовому благочестию, которые ни на кого никаких нравственных обязанностей не налагали. Эта формальная религиозность могла случайно соединиться в том или другом лице с добродетелью, но столь же удобно мирилась и с крайним злодейством». В доказательство чего приводится Иван IV, будто бы вполне миривший свои злодейства со своей религиозностью