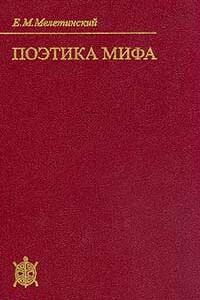Для судеб новеллы уже на стадии «позднего» реализма исключительное значение имеет опыт А. П. Чехова. Разумеется, здесь не место для серьезного анализа его творчества, тем более что такие анализы не раз производились в последние годы, в частности очень полно и удачно в книгах А. П. Чудакова [Чудаков 1971; 1986], особенно четко объяснившего и литературные корни Чехова, и природу так называемой «бессобытийности Чехова, его приемов передачи жизненного потока и внешнего мира в их полноте, включающей случайные, как бы «неотобранные» элементы. Отсылая читателя к этой и другим работам о Чехове, я бы хотел только вскользь отметить некоторые моменты, уточняющие место Чехова в истории новеллы.
Выходу Чехова-новеллиста на литературную арену кроме продолжавшейся линии традиционной новеллы (например, у И. С. Тургенева) предшествовал длительный период расцвета массовой очерковой литературы, начиная от «физиологических» очерков в духе натуральной школы и кончая юмористикой «лейкинского» типа, к которой молодой Чехов был очень близок. От этой последней Чехов усвоил две тенденции, в известном смысле противоположные: с одной стороны, выделение отдельных «бытовых» сценок, а с другой — анекдотичность. Впрочем, превращение новеллы в серию сценок началось в общеевропейском масштабе очень давно, может быть начиная с Сервантеса. Этот прием как бы ослаблял специфику новеллы, переносил внимание с целого на отдельные фрагменты; однако он привился в новелле, особенно в новелле XIX в. и, как мы видели, некоторые новеллисты вроде Шторма усматривали в этом проявление драматизма в новелле, хотя истинный «драматизм» в классической новелле эпохи Возрождения не имел ничего общего со «сценичностью». В массовой литературе, предшествующей Чехову, эти сценки часто превращались в отдельные произведения, и у самого Чехова немало таких очерков-сценок (ср. «Дочь Альбиона», «Трагик», «Экзамен на чин», «Налим», «Злоумышленник» и многие другие). Что касается анекдотичности, то она является древнейшим ядром новеллы как жанра, разумеется в тех случаях, когда анекдот получает достаточное нарративное развертывание и не умещается в «сценку». Как уже отмечалось, анекдотичность отчетливо ослабела в новелле XVII—XIX вв., тяготевшей к роману или повести, и как раз ее сохранение, пусть в трансформированном и не обязательно комическом виде (например, у Клейста, Вашингтона Ирвинга, Пушкина), поддерживало новеллистическую специфику. «Возрождение» новеллы в конце XIX в. связано с некоторым возрождением анекдота и одновременно с парадоксальной потерей в этой новой анекдотичности традиционных условных «литературных» мотивов. Мы уже зафиксировали этот процесс на примере Мопассана.
Чехов идет гораздо дальше, вступая в область глубоких жанровых противоречий. Чехов тоже и еще отчетливей, чем Мопассан, прибегает к поэтике анекдота и также отказывается, особенно на более позднем этапе, от всяких традиционных мотивов, заменяя их глубинным, хотя совсем не навязчивым проникновением в быт и психологию. Постепенно Чехов освобождается не только от анекдотических мотивов, но и от привычных повествовательных приемов, тем самым как бы ослабляя «новеллистичность» в ее классическом понимании. Более того, Чехов резко уменьшает масштаб новеллистического события, ослабляет мотивировку «события» и ее последствия, сближает новеллистическое событие с бытовыми и психологическими буднями, всячески «гасит» не только выделенность события из полного случайностей жизненного потока, но и самую экстраординарную исключительность, «неслыханность» события, о которой говорил Гете, переносит часто акцент с событий на внутренний их подтекст и т. п. Иными словами, Чехов одновременно возрождает новеллу и трансформирует ее в ее противоположность — своего рода антиновеллу. Именно в этом смысле он далеко опережает Мопассана и предвосхищает дальнейшие трансформации новеллы в XX в.
Лишь в немногих рассказах Чехова мы можем уловить его отношение — всегда практически отрицательное — к традиционным топосам и к самому принципу авантюрности, а с другой стороны — к свойственному порой новелле квазидидактизму. Насколько изолированным в творчестве Чехова является рассказ «Без заглавия» — о монахах, покинувших монастырь, чтоб увидеть дьявольские соблазны города! И как вместе с тем даже этот рассказ далек от прямолинейно-юмористической разработки подобной темы в классической новелле Возрождения, у того же Боккаччо. Огромное отдаление Чехова от традиционных мотивов еще очевиднее в рассказе «Студент», где всплывает тема евангельской тайной вечери как повод для чисто «чеховских» настроений и ламентаций семинариста. «Черный монах» с его клинически-психологической разработкой фантастического мотива подчеркивает удаленность Чехова от романтической новеллы. Ироническое отношение Чехова ко всякой авантюрности просвечивает во всем его творчестве, очень остро новеллистическая авантюрность разоблачена в шутливом рассказе «Шведская спичка», где псевдодетективная история кончается тем, что героя обнаруживают живым и невредимым у любовницы. «Авантюра» здесь отрицается, но есть анекдот, причем вполне откровенный.