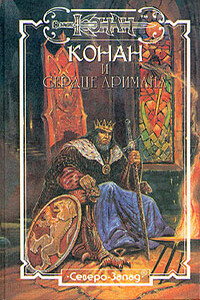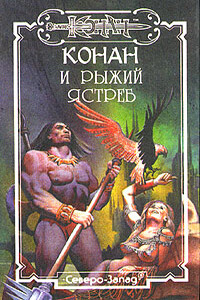Спокойную речь вдруг прервал смех-кашель, и старческий голос глумливо провизжал:
— Желуди! Желуди! Они в твоем чреве, они там, они дадут всходы! Страшные всходы, разрывающие ничтожную плоть отступника! И взрастет древо смрадное, и поднимется оно к тучам серым, и вороны закружат, и земля обезлюдит…
— Уймись, Кагата, — властно потребовал первый. — Не надо иносказаний. Эту птицу баснями не кормят…
— Желудями его кормят, желудями!
— …он сам горазд сказки сказывать. Погляди на него: он стар и мудр, и бороду отпустил до пупа. На шее у него ожерелье из волчьих зубов, чтобы отгонять ничтожных катшу, которых не боятся даже отроки. Одежда у него, судя по тому, что от нее осталось, была из беленого полотна, и тело свое он поддерживал в чистоте, регулярно совершая омовения в благословенных водах Безымянной, богатой, как известно, здоровенными рыбинами величиной с кисть трехлетнего ребенка. Наевшись священных желудей…
— Аки вепрь, рылом землю роющий!
— …он погружался в созерцание величественной трухлявой деревяшки, коя, не потеряв и в новом обличий низкого коварства, навевала ему сладостные утехи, суля умиротворение и… силу! Да, старик, сила и власть грезились тебе на песчаной макушке холма, объявленного тобою священным! Власть, пусть ничтожная, всего лишь над обманутыми, изгоями, лишившими себя покровительства земных вождей и небесных богов, но власть безраздельная — вот что тешило тебя, гнусный обманщик!
Последние слова прозвучали почти так же негромко, как и вся обличительная речь неведомого судьи, но столь зловеще, что Потерявший Имя содрогнулся, поняв, что обращены они к тому, кого сызмальства почитал за мудрейшего и сильнейшего из людей, кому доверял безраздельно. Он ощутил боль во всем теле и с трудом приподнял веки.
Где-то высоко, словно бледная луна в багровом небе, виднелся светлый круг с неровными краями, перечеркнутый тонкими колеблющимися линиями. Приглядевшись, Потерявший Имя понял, что это вовсе не ночное светило, а отверстие, прорубленное в высоком каменном своде, на стенах которого играли багряные сполохи факелов. Трепещущие линии были, очевидно, ветвями кустов, росших на куполе странного сооружения, внутри которого он оказался.
Взгляд юноши скользнул ниже, и он тут же прикрыл глаза — столь страшное зрелище открылось в неровном свете факелов.
Поедатель Священных Желудей висел, распятый на двух бревнах, косо укрепленных крест-накрест у дальней стены. Руки и ноги старика опутывали веревки, почти нагое окровавленное тело едва прикрывали лохмотья, бывшие когда-то одеждой. По обеим сторонам распятого молча и неподвижно стояли какие-то люди, ни лиц, ни облачений которых Потерявший Имя не разглядел.
— Ты обвиняешь меня, всемудрый и всесильный Дивиатрикс… — раздался свистящий голос распятого. — Что ж, твое право, на то ты и верховный друид. Но в словах твоих нет справедливости. Не себялюбие вело меня, а лишь воля Прародительницы, отвратившей чад своих от кровавых кощунств, начало коим положили те, кого вы…
— Молчи, ничтожный! — Глас Дивиатрикса на сей раз был подобен грому, раскаты которого гулко прокатились под каменными сводами. — Прародитель Семитха принес в жертву чресла свои, отдав Кульриксу на поедание собственные ноги, затем же, по воле богов, вкусил плоть единоутробного брата, дабы племя пиктов избегло участи многих, кто сгинул во тьме веков! Как смеешь ты, раздавленная гусеница, рассуждать о том, что свято для любого пикта, что признают даже наши одичавшие собратья из южных лесов, поедающие термитов? И потом, мудрый мой, объясни, как это Баннут, само существование коей окутано слишком плотным туманом иносказаний, могла быть чьей-либо прародительницей, если со времен Кульрикса и Семитхи мужчины брали женщин к своему дыму, а вовсе не наоборот?
Последний вопрос верховный друид задал уже без гнева, с издевкой.
— Она… сказала… Она сказала мне, что так было не всегда.
Голос жреца Перакраса был едва слышен.
— Она сказала тебе! Воистину, ты великий шаман, скользящий мыслью по Древу… Беннут собеседовала с тобой, возлежа на Верхних Ветвях, у подножия Чертога Гулла?