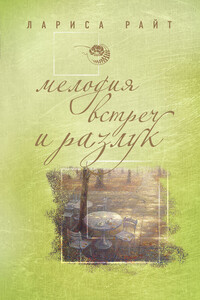Туфли казались диковинкой сами по себе. В поселке ребятня летом бегала босиком, осенью забирались в резиновые сапоги, а зимой — в валенки. Туфли имелись лишь у девушек постарше или у молодых женщин. В них ездили в город или отправлялись на танцы в клуб. Но они были стоптанными, неприметными и, по выражению бабушки, «вида не имели». Лакированная пара на коврике была шикарной и, даже покрытая глиной, вызывала у маленькой девочки трепет: она принадлежала ее матери.
Аня садилась на коврике, сворачивалась калачиком и в ожидании пробуждения хозяйки туфель прижимала к себе их грязные каблуки.
Мать просыпалась и первым делом бросалась — нет, не к дочери, а именно к туфлям. Громко вздыхая и ругая на чем свет стоит «безмозглую девчонку, решившую угробить своей задницей произведение искусства», начинала приводить их в порядок.
Аня следила за тем, как вода и тряпка превращают просто чудесные туфли в недосягаемо божественные, и просила, указывая на них дрожащим пальчиком:
— Можно?
— Еще чего! — тут же фыркала мама. — Каблуки сломаешь.
— Дитя голову расшибить может, а ты про каблуки талдычишь! — сердито вмешивалась бабушка, чем подставляла голову под град протестов:
— Мама! Я тебя просила разговаривать нормально. Здесь же не колхоз, а культурная столица СССР, между прочим. И какая разница, почему ей нельзя брать мои туфли, голову она расшибет или каблуки: какая разница!
Туфли немедленно убирались в шкаф, а из сумки выуживалось очередное чудо дизайнерской мысли: босоножки на пробковой танкетке с толстыми тканевыми ремешками. Мать ловко вставляла в них аккуратные маленькие ступни. Из-под ремешков выглядывали пальчики с ногтями, выкрашенными в ярко-красный лак. Женщина вытягивала ногу и любовалась эффектным зрелищем, покачивая в такт движениям ступни головой.
Качала головой и бабушка. Вздыхала, и сокрушалась, и ворчала:
— Разницу раки съели.
Мама на упреки внимания не обращала. Скручивала свои густые темные волосы в тугой узел на затылке и объявляла:
— Пойду купаться.
— И я, — тут же радостно хлопала в ладоши Аня.
Губы матери кривились в недовольной гримасе:
— Дома сиди!
Детский подбородок дрожал от обиды, нос хлюпал, а на глазах выступали слезы.
— Возьми девчонку-то, — вступалась бабушка.
Мать брала, но всю дорогу до залива и обратно хмурилась и обиженно молчала. Молчала и Аня, неизвестно почему чувствовавшая себя виноватой. И так неприятны были эти совместные вынужденные прогулки, что проситься на них девочка вскоре перестала.
Да и некого было просить. Мама наезжала с неожиданным визитом раз в несколько месяцев, задерживалась на пару дней, чтобы, как она выражалась, «отдохнуть от суеты» и снова исчезнуть на неопределенный срок.
Порой визит ограничивался несколькими часами, а то и минутами:
— Беги, сиротка! Мамка твоя приехала, — зычно звала Аню соседка.
Пятилетняя Аня бросала веселую игру в чехарду и мчалась так быстро, насколько позволяли ноги.
Бежала, не останавливаясь, не переводя дыхание, но все равно опоздала. Матери и след простыл. Вместо нее посреди комнаты стоял темно-коричневый ящик на треноге.
— Чавой-то? — пнула она треногу.
— Телевизор, — важно ответила бабушка. — Будем с тобой теперь, как городские, идти в ногу со временем.
И пошагали. Включали телевизор, звали соседей. Смотрели съезды каких-то непонятных депутатов, смеялись над «дорогим товарищем Брежневым», детвора набивалась к Ане на «Спокойной ночи, малыши!». Но больше всего любили художественные фильмы. Аня тоже любила и смотрела, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово, потому что верила: актриса в телевизоре смотрит только на нее и общается только с ней.
Однажды спросила бабушку:
— А когда ее оттуда отпустят?
— Кого?
— Маму. Из телевизора.
— Можно подумать, ее там кто-то насильно держит, — нахмурилась пожилая женщина.
— Она сама там хочет сидеть? — удивилась маленькая Аня. — А ей не больно?
— Ей-то нет. А другим несладко. — Бабушкины намеки оставались, конечно, за гранью детского понимания. Аня приняла только одно: мама живет в телевизоре и ни за что не желает оттуда вылезать.
— Я, когда вырасту, тоже туда залезу.