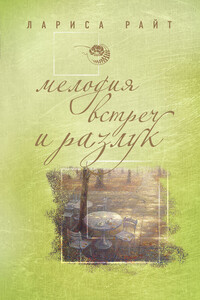Сама Алевтина Андреевна собралась с духом и появилась в больнице только спустя неделю. Нет, она исправно звонила врачам и с пристрастием расспрашивала о состоянии дочери, чтобы у тех не было искушения поделиться с кем-нибудь своими суждениями о ее холодности и черствости. Для вездесущей прессы у Алевтины Андреевны имелась прекрасная отговорка: «Спасением дочери занимаются врачи, а я сейчас должна думать о процессе ее восстановления».
Да и отговоркой это, в сущности, не было. Актриса связалась с Америкой и забронировала на имя Анук Кедровой билет с открытой датой — пришла пора художнику отдавать долги. Женщина, бесспорно, действовала в своих интересах: она обязана была продемонстрировать заботу о дочери, чтобы каждое, даже самое дотошное СМИ уверилось: рука помощи Алевтины Андреевны Панкратовой была крепкой и искренней. И все же в этой погоне за собственной выгодой таилось то, в чем актриса страшилась признаться самой себе: настоящее сочувствие и жалость к дочери.
Были ли они запоздалым материнским инстинктом? Скорее всего, не совсем. Женщина понимала: с ее Нукой произошло то, чего сама Алевтина Андреевна боялась больше всего на свете. Стоя на самой вершине, купаясь в почитании и признании, она в одну секунду оказалась на самом дне пропасти, в которой единственное чувство, что останется у людей по отношению к ней, — сожаление. Фотографы будут караулить у дверей палаты и передавать снимки обезображенной женщины в ведущие издания, а журналисты — писать, какой блистательной она была, так, будто бы жизнь ее уже кончилась. Нет. Никто не должен был увидеть Нуку в таком плачевном обличии. Да, могли посочувствовать, пускай и пожалели бы даже, но заживо хоронить никто не смел — обязаны были ждать возвращения. А Нука обязана была вернуться, вернуться с триумфом и, конечно же, с доказательством всеобъемлющей любви и всесильности матери. А для этого нужны были деньги, и первоклассные хирурги, и время. И человек, который мог обеспечить все это (опустошать счета академика актрисе очень не хотелось), поэтому она висела на телефоне, обсуждая с художником нюансы сделки, отправляла в разные американские клиники заключения российских врачей, ждала ответа. В больницу поехала только тогда, когда уверилась, что у нее есть отличный план по спасению дочери.
Возможности примирения Нуки и Миши Алевтина Андреевна, однако, по-прежнему не исключала. Эта идея казалась ей превосходной еще и потому, что Михаил, как человек небедный, мог взять часть расходов на себя, а следовательно, утаив эту информацию от художника, актриса получила бы еще и неплохой шанс подзаработать.
Но эти корыстные помыслы Нука разбила в пух и прах за две минуты разговора с бывшим мужем. Михаил приехал буквально через полчаса после того, как бывшая теща сказала:
— Трубки вынули, лицевые бинты сняли, можешь приезжать.
Влетел в палату: впереди — огромный букет, за ним — страдающие глаза:
— Анюта, я… Как только… Я все сделаю, только разреши.
Нука выразительно взглянула на мать, и та деликатно вышла из палаты, позволив своей деликатности не заходить слишком далеко, а остановиться у двери и обратиться в слух.
— Зачем ты пришел? — прошелестело с кровати.
— Я хочу помочь.
— Я не нуждаюсь.
«Идиотка! — едва не вырвалось у Алевтины Андреевны. — Нашла время для гордости!»
— Аня, ты когда-нибудь простишь меня?
В палате воцарилось молчание. Актрисе казалось, что даже на таком расстоянии она слышит звук капельницы.
— Так простишь или нет?
Послышалось слабое шуршание подушки. Алевтина Андреевна поняла, что дочь покачала головой.
— Никогда?
Шуршание повторилось.
Михаил выскочил из палаты, едва не сбив пожилую актрису с ног. Та вернулась, объятая негодованием и готовая отчитать непутевую Нуку на чем свет стоит. Но увидела остановившийся, устремленный в стену взгляд, руки, перевязанные бинтами, и только спросила:
— Зачем ты так?
— А как, мам?
— Не до гордости сейчас, Нука.
— Не до нее.
— А что же ты?
— Я люблю его, мама. Только разве тебе понять?
Алевтина Андреевна почувствовала неприятный укол. Со времен всепоглощающей страсти к художнику она не испытывала сильных чувств ни к одному мужчине. Она всегда выбирала личную выгоду и была этим счастлива. Чувства она берегла для сцены, а в жизни порхала от одного мужа к другому, измеряя последствия переезда не глубиной эмоций, а количеством благоприобретений. Другие пути и стратегии были ей неизвестны, оттого собственная дочь и казалась ей человеком с другой планеты. В ее положении здравомыслящая личность ни за что не отказалась бы от любой протянутой руки. А если к тому же это еще и рука дающего, то такой отказ, кроме как сумасшествием, больше никак не назовешь. Но это взгляд ее, Алевтины, а дочь своим остановившимся, упертым в стену видела нечто, старой актрисе неведомое, испытывала чуждые той чувства и думала о чем-то далеком и непостижимом.