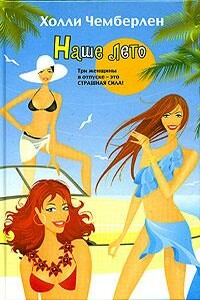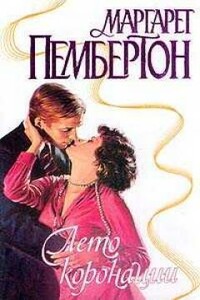Мастер, и без того с трудом балансировавший на верхней перекладине, полетел сверху прямо на хозяйку, ругаясь многоэтажно, но столь же художественно.
Он обрушился на Алену всей своей тяжестью, так что она была оглушена: и болью, и неожиданностью, и суеверным ужасом от вида отвратительного летучего животного, которое тут же упорхнуло в распахнутое окно, так что оставалось загадкой — существовала тварь на самом деле или только померещилась?
А печник, кажется, здорово ударился и никак не мог подняться.
И пока на полу происходила вся эта куча мала, пока они приходили в себя и осознавали, что же, в сущности, случилось, — тут-то как раз и произошло самое страшное.
Вернулся Алексей. И фактически застал их лежащими в обнимку...
Что последовало за этим, Алена помнила смутно и обрывочно.
Ах да, Алексей с ходу, без всяких предисловий и выяснений, разорвал фирменную цветную упаковку, и на пол полились мягкие волны розового гардинного шелка:
— На, подстели себе, мягче будет! И тебе, и твоему хахалю. На голом полу и задницу занозить недолго!
Алена была так шокирована, что даже не возражала. А он принял ее молчание как признание собственной вины.
— Нечего возразить, а?
Возразил ему печник, встав и отмывая под рукомойником выпачканные сажей широкие ладони:
— Ума у тебя, видать, палата, да ключ от нее потерян!
Но Алексей игнорировал его замечание.
Он сейчас не был ни интеллигентом, ни романтиком, ни джентльменом. Превратился в рассвирепевшего озерковского мужика, застукавшего свою благоверную с соседом.
Уходя, печник пообещал на днях вернуться с материалами и инструментами, а Алене в сердцах посоветовал:
— Плюнь на него с высокой колокольни, хозяюшка. Словами жернова не повернешь, а олуха не научишь.
Но Алена и не пыталась повернуть жернов словами, так как подходящих слов у нее не было. Жернов вертелся, растирая в пыль все то хорошее, что было между ними. Зернам добра и любви, посеянным ими обоими, не суждено было прорасти и заколоситься — они были безжалостно смолоты, а мука развеяна по ветру.
— Сердцеловка! — кричал он, цитируя стихи знаменитого Алениного предка. И дополнял это определение совсем не литературными выражениями. — Да у тебя постоянно между ног чешется! С печником, надо же! Ну как же, сажа, такая экзотика! Это все равно что с негром! Негров, кстати, ты тоже вниманием не обходишь. Какой у них, расскажи, черный или розовенький, как ладошки и язык? Ты всех готова обслужить. Экономная! За печку собралась платить натурой?
Алена, так и не встав с пола, плотно зажала уши ладошками, чтобы не слышать всей этой грязи. Но она видела, как безостановочно и беззвучно, словно у выброшенной на берег рыбы, раскрываются его губы...
Те губы, что так сладко целовали...
И любимый образ расплывался, искажался, терял очертания. Так растекается красавица медуза под лучами горячего солнца, превращаясь в жидкий бесформенный кисель.
«Хоть бы он скорее ушел, — думала она. — Долго я этого не вынесу!»
А он и правда повернулся к дверям, и она бессильно опустила руки. Рано!
Алексей повернулся и подобрал с полу шелковые шторы:
— Зачем тебе подстилка, ты сама подстилка!
Не слушать, не слушать! Но он кричит громко, слишком громко, попробуй не услышь!
— Сука не захочет — кобель не вскочит. Одних соблазняешь в ванне, других в печке! Тебе все равно где, все равно кто, лишь бы у него стоял...
Ушел.
Все было кончено.
Нет, не все.
Потому что он вернулся и принес вместо штор ее заветное кожаное панно, сорванное со стены вместе с кнопками.
— Забери! Можешь передарить своему Григорию. Или любому следующему клиенту!
Ей показалось, что панно окрашивается красным.
Кровь?
Нет, просто оно превращается в плащ матадора, которым размахивают перед раздувающимися ноздрями не Тельца, а уже Быка. Разъяренного и беспощадного, готового постоять за свою жизнь и за свое достоинство.
— Убирайся, негодяй, — глухо сказала она и, по-бычьи наклонив голову, двинулась вперед.
Но перед ее лицом уже захлопнулась дверь ее же собственного дома. Да и не дверь это уже была, а глухая бетонная стена. Стена склепа, навсегда отгородившая ее от света, от мира, от жизни.