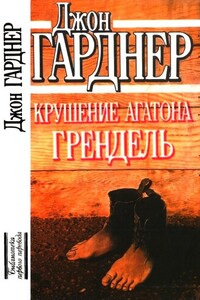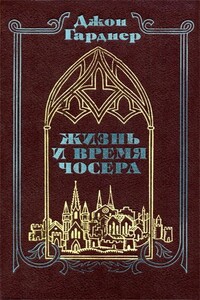«Ну, что на бирже?»— спрашивал кто-нибудь из нас, скорее всего Бенни Руссо; несколько лет спустя он стал экспертом по компьютерам. Или кто-то другой задавал вопрос: «Послушай, Арнольд, в чем секрет счастья?» Скорее всего Ленни, по прозвищу Тень. Любил он про чувства поговорить. Был у него пунктик. «Совсем погряз», — решил я. Позже, во Вьетнаме, он пристрастится к наркотикам и в двадцать лет умрет, отравившись ими. Но что бы мы ни говорили, значения не имело, важно было «завести» Арнольда. А он, о чем бы его ни спросили, всегда верил, что это серьезно. В те времена в моде была откровенность «хиппи», по крайней мере в определенных кругах, и мы тоже усвоили этот стиль, но с известной долей иронии, чтобы не дать кому-либо подумать, что мы принимаем всерьез россказни Арнольда.
— А, это вы, хулиганы, — обычно бросал Арнольд, лишь приподняв уголки рта и брови и даже не давая себе труда презрительно вскинуть голову; впрочем, недружелюбия в этом не было. Он знал нас. Каждый знал нас. И большинство жителей города, как я убедился несколько лет спустя, даже любили нас, хотя всех раздражал проклятый шум наших мотоциклов.
— Послушай, малыш, — сказал Арнольд в тот день, с которого я поведу свой рассказ. Сощурив глаза еще больше, чем обычно, он говорил с особым возбуждением. — Послушай, малыш, с тобой говорит художник, понимаешь? А что знает художник о том, например, что творится сегодня в мире? Люди всегда задают самые важные вопросы не тем, кому надо. Например, известного футболиста спрашивают о политике. А знаменитого проповедника, такого, как Билли Грэхем, просят предсказать, кому достанется Большой приз футбола. — Он покачал головой, как будто бы все это удручало его значительно больше, чем он смог выразить. — Если у вас есть мозги, ребята, то вы спросите меня: в чем соль жизни? И я отвечу: учитесь, овладевайте хорошим и честным ремеслом, а еще лучше — сделайте его искусством. — Он улыбнулся. Его подбородок был похож на большой розовый мягкий мячик с двумя-тремя ямочками. — И вот что я вам скажу: уж лучше вы задавайте проклятые вопросы мне, чем спрашивать кого-то, кто думает, что знает ответы на все. — Он посмотрел в сторону Джо, будто имел в виду его.
Джо, как всегда, вытирал тряпкой все подряд — стойку бара, краны, пепельницы, прекрасно зная, что минуту назад он все это уже сделал. Телевизор над его головой был включен, и оттуда неслись последние новости: кто-то кого-то убил, где-то проходили демонстрации и перевороты. Над Вьетнамом и Беркли летали вертолеты — все одно и то же.
На экране шум и грохот, бородатые «зеленые береты» сменяют бородатых партизан, у одного разбито стекло очков и заклеено «скотчем». И трудно поверить, что за стеной ресторана ярко светит солнце и разомлевшие собаки спят на тротуаре на солнышке.
Джо никогда не смотрел телевизор. Он вел свои собственные войны, необъявленные, точно великие державы, главным образом со своей дочерью Анджелиной. У него были быстрые, словно у игрока, нервные пальцы и черные волосы, зачесанные назад так гладко, что они казались нарисованными. Как и Арнольд, он не выносил длинноволосых. Когда его взгляд вдруг случайно падал на мои лохмы, которые в те дни болтались ниже плеч, лицо у него застывало и как будто даже дыхание перехватывало. Джо Деллапикалло, отец Анджелины, был не из тех, кому по душе мое пренебрежение к порядку. Сейчас, вытирая стаканы, он нет-нет да и усмехался, видимо прислушиваясь к нашему разговору, но ни за что не признался бы, что ему интересно, о чем мы болтаем с Арнольдом.
Входная дверь открылась, и, впустив волну света, вошла Анджелина. Занятия в школе кончились. Она была старшеклассницей. Джо бросил на нее беглый взгляд, как бы отметив, что она явилась; и все. Он всегда был такой — холодный как лед. Можно было подумать, что он ее ненавидит или вообще с ней незнаком, но попробуй кто-нибудь дотронься до ее красивых загорелых голых ног, он пулей вылетит из-за стойки и учинит над дерзнувшим Страшный суд. Я много думал об этом по ночам, в отчем доме, лежа в постели и заложив руки за голову. Считается, что наступила эра сексуальной революции, любовь свободна — было бы желание, — об этом писали все журналы, и я порою был уверен, что повсюду идет разгул свободной любви, везде, где только возможно, на каждой вечеринке, где меня нет, за каждым освещенным окном. Так, наверно, и было, даже в нашем городе, — и люди, рисующие на телах ближних цветы, и групповой массаж согласно инструкции; но ничего подобного не происходило там, где бывал я, и, несомненно, там, где бывала Анджелина. В этом я совершенно уверен. Признаться, по вечерам я частенько следил за ней. Слонялся вокруг ее дома, наблюдал, горит ли свет в ее окне, и, если света не было и ее силуэт не мелькал в доме, искал, где же она, на какой вечеринке. Однажды около полутора часов я преследовал машину, в которой, как я думал, была она — бесшумно, с погашенными фарами висел на хвосте, — и когда наконец у засевших в машине сдали нервы и они вышли из нее под деревьями у озера, я включил фары и увидел всех троих сразу; девушка испуганно оглянулась, и я обнаружил, что это не Анджелина, а какая-то блондинка. Погудев, я дружески помахал им рукой. Словом, мы с отцом Анджелины создали ей такие условия, что вряд ли она могла незаметно даже пальцем пошевельнуть.