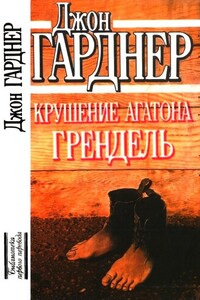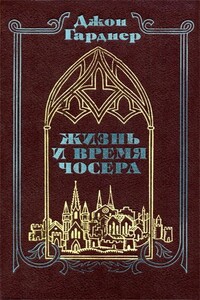Представив себе, как убийца крушит деревянные шкатулки, Влемк до того огорчился, что ему расхотелось и пить. На него будто навалили огромную глыбу снега. «Так вот к чему в конце концов все сводится, — горько размышлял он, разглядывая грязные ногти на своих пальцах, держащих ножку бокала. — Где наши юные надежды, наши высокие идеалы?!»
Но хотя ему было немного досадно и даже больше чем досадно — у него сердце кровью обливалось, — что проку было бранить своих товарищей по искусству? Голод и нищета — самые сильные средства убеждения, как и полицейский, что просиживал все вечера в кабаке, попыхивая трубкой и то и дело поглядывая на убийцу. И потом — ведь сам Влемк невольно способствовал их падению. Во времена своего «цинического периода» в искусстве он с удовольствием и волнением рассказывал о том, как писал на шкатулках «Реальные картины»— те самые злые портреты Королевы. Когда же он стал писать красивые цветы, кошек и собак, рассказывать ему стало нечего. Да и теперь — тоже. Еще пример того, подумал он, когда дух настолько подавлен материей, что уже не осознает самого себя.
«Вот и отлично», — сказал себе Влемк и, раскланявшись, пожелав друзьям доброй ночи, медленно встал, заткнул бутылку пробкой, сунул ее себе в карман и пошел вверх по улице домой, затем вверх по лестнице — в мастерскую и раскрыл ящик с красками.
— Что ты делаешь? — закричала картина, увидев занесенную над ней кисть.
Он хотел было сказать: «Надеюсь сделать тебя краше». Но картину охватила такая паника, ее маленькая грудь так высоко вздымалась, а глаза так широко раскрылись, что Влемк махнул рукой и только улыбнулся, стараясь ее подбодрить, закусил нижнюю губу и начал писать. Он писал, не останавливаясь, всю неделю, и, когда закончил, портрет выглядел — так, по крайней мере, казалось Влемку — совсем как Королева, только без изъянов. Почти всякий, кто смотрел на это лицо, находил его самым красивым — просто ангельским ликом — и таким близким к натуре или, во всяком случае, смутно угадываемым ее возможностям, что казалось, можно уловить его дыхание. Но говорить картина уже не могла. Конечно, не все были убеждены в ее совершенстве. Когда Влемк показывал этот портрет своим подмастерьям, те хмурились и норовили отмолчаться, но в конце концов один из них, толстяк, сказал:
— Да вроде бы ничего и не изменилось.
Влемк неистово замахал руками, как бы говоря: «Я, Влемк, целую неделю писал, а ты говоришь — ничего не изменилось?»
Толстяк опустил голову.
— Я сказал «вроде бы», — оправдывался он.
«Ничего-то они не понимают», — огорчился Влемк.
Хотя картина и смотрела на него по-прежнему укоризненно, но стала, подобно Влемку, нема как могила.
13
Объяснялось ли это малодушием или другими причинами, но только Влемку очень не хотелось нести картину самому — да и не было в этом смысла, уверял он себя; Королеве вовсе незачем с ним и разговаривать. И все же, когда прошла неделя с тех пор, как он отправил картину со своим младшим подмастерьем, а вестей из дворца все не было, он втайне забеспокоился. Но весть все же пришла, ее привез сам кучер. Он был в цилиндре, в блестящих сапогах и вручил Влемку небольшую белую карточку, на которой неуверенной рукой Королевы было написано, что она просит его срочно прибыть во дворец.
Влемк нахмурился и испытующе посмотрел на кучера. Кучер стоял у окна, а за окном медленно ползли низкие свинцовые тучи. Лицо кучера ничего не выражало, он, сложив руки, вперил в пол торжественный — почти скорбный, как показалось Влемку, — взгляд. Живописец торопливо повесил халат, надел свой черный выходной пиджак, отдал подмастерьям распоряжения на день и направился вместе с кучером к карете.
Они поднялись на холм. Ворота дворца были распахнуты настежь, собаки неподвижно, как околдованные, лежали у дороги. Привратник не только не задержал кареты, но почтительно отступил назад и снял шляпу. А увидев в окне кареты Влемка, проговорил:
— Дай бог вам здоровья, господин.
Влемк помрачнел еще больше.
У высокой арки подъезда карета резко остановилась, и кучер, забыв про свою горделивую осанку, почти на ходу соскочил с козел и открыл дверцу. Когда он помогал Влемку вылезать, на его лице была написана такая глубокая торжественность, что Влемк, поколебавшись, сощурил глаза и рывком приблизил свое бородатое лицо к лицу кучера, чтобы разглядеть его; но на лице этого человека нельзя было прочесть ничего, и Влемк с чувством нарастающей тревоги устремился вверх по дворцовой лестнице.