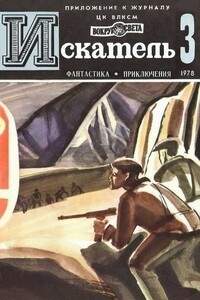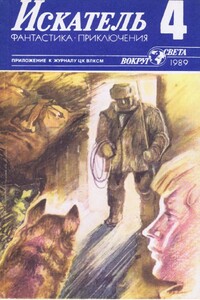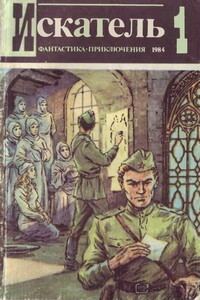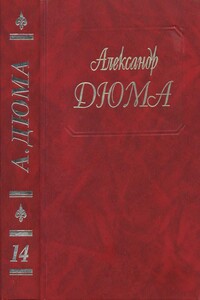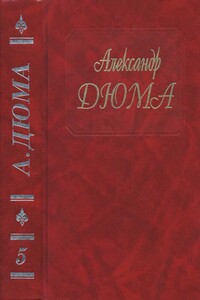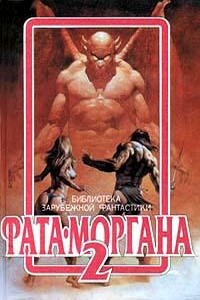Лая собак не прекращался, и он добавил:
— Что за мазила стрелял? Как можно не попасть в такого зверя? Мой ему совет стрелять на первых порах в слонов.
Лесники с беспокойством переглянулись. Они догадались, что это были за ружейные выстрелы. Выражение лица моего деда вдруг изменилось и стало встревоженным.
— Люк! Джонас! — воскликнул он, обращаясь к своим спутникам. — Сколько вы слышите собак?
— Не знаю, — ответили они хором.
— Ну–ка, послушайте! — сказал он, останавливая их. — Я теперь слышу только двух, Рамоно и Спирона. Где же Фламбо с Раметтой? О–о–о!..
— Мэтр Жором, вы перепутали тех и других, — сказали охранники.
— Я? Вот еще! Я знаю голоса моих псов, как любовник — голоса своих любовниц. Черт побери! При олене лишь Рамоно и Спирон. Не произошло ли что–нибудь с двумя другими?
— Полно, мэтр Жором! — принялся за свое Джонас. — Да что с ними станется, с вашими собаками? Вы, как взрослый ребенок. Фламбо и Раметта сошли со следа или метнулись за каким–нибудь зайцем, который и увлек их за собой.
— Мои собаки оставляют след, только когда я их отзову, слышишь, Джонас? — сказал дедушка. — Их не возьмешь на зайца, если они гонят оленя, бросься он им в глаза или даже прыгни на нос. Наверное, с ними что–нибудь случилось и, подумать только, именно с Раметтой и Фламбо!
Мой бедный дедушка, минуту назад такой радостный, был готов заплакать. Каждые десять шагов он останавливался и прислушивался. Затем, все более безутешный, восклицал:
— Что бы вы ни говорили, остались только Спирон и Рамоно! Что стало с другими? Что с ними стало, я вас спрашиваю?!
Друзья–лесники как могли успокаивали его, пытаясь убедить, что обе собаки, не чувствуя больше поддержки хозяина, вернулись домой. Дед даже не потрудился ответить. Он лишь качал головой да тяжко вздыхал:
— Говорю вам, с ними приключилась беда. Помяните мое слово.
Так прошел путь от Франшимона до Льежа, где егери монсеньора передали своего пленника в руки конной жандармерии.
Бедного дедушку бросили в камеру — восемь квадратных футов в той части дворца, что служила тюрьмой.
Дверь за ним с грохотом захлопнулась, взвизгнула задвижка, но как ни отвратительна была эта пора, она оставила Деда безразличным — уж очень он волновался за судьбу Фламбо и Рамотты.
На следующий день, проснувшись с мыслью о своих любимых собаках, Жером Палан все же не замедлил ощутит г. тяжесть своего собственного положения, а так как у него не было веры, которая дает смирение, он вскоре сдал. Привыкший к активной жизни, свежему горному воздуху, ежедневной ходьбе и веселой жизни среди друзей, он не смог снести тюремного одиночества.
Напрасно он забирался на табуретку и цеплялся за оконную решетку, чтобы украдкой вдохнуть глоток воздуха, прилетавшего к нему вместе с арденнским ветром; тщетно вглядывался в горизонт, в туман над далеким Маасом, обвившимся вокруг города нескончаемым серебряным шлейфом, и искал дорогие его сердцу тэсские леса; напрасно переносился туда в воображении, воскрешая в памяти их свежие запахи, каскадики света, пробивавшиеся сквозь листву, невнятный шорох тронутых ветром веток и их шепот в ночи. Мрачная реальность развеивала его волшебные мечты, как ветер — осенние листья, и мой дедушка вдруг оказывался в холодной комнате с сырыми серыми стенами.
От так отчаялся и горевал, что заболел. К нему допустили врача. Из чувства солидарности, наверное, врач заинтересовался аптекарем. Он преувеличил степень болезни и велел выделить ему не такую убогую камеру и лучше кормить. Дедушка скучал, и он пообещал пронести ему книги.
В то же время он стал хлопотать перед епископом, чтобы дедушка смог выкупить себе свободу.
По ходатайству бабушки бургомистр и тэсские старшины представили монсеньору такую же просьбу, так что месяц спустя после ареста дедушка узнал от своего друга врача, что его немедленно освободят за сумму в две тысячи флоринов.
Он живо написал бабушке письмо, в котором сообщал радостное известие и велел принесли требуемые деньги, то есть почти все сбережения.
В постскриптуме добавил: чем быстрее бабушка придем тем скорее се мужа освободят.