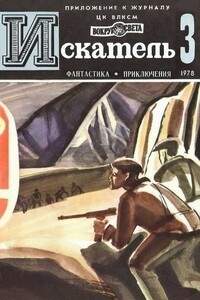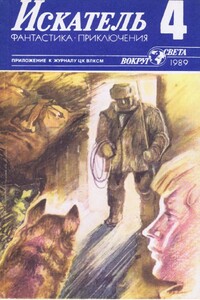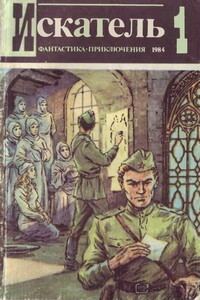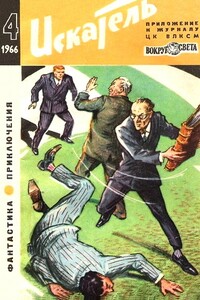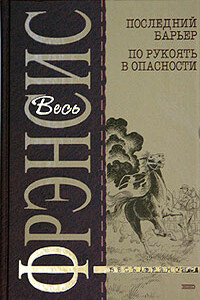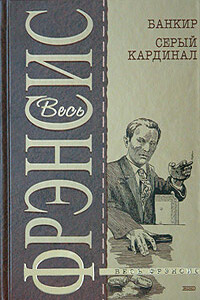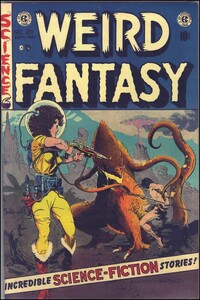Я поворачивался после каждого ее маневра так, чтобы оказаться к ней лицом. А она все ближе подбиралась ко мне после поворотов. Оставалась одна надежда на спасение: не показывать ей, что я боюсь ее. И делать вид, будто я купаюсь по собственной воле. Слабое утешение. Так, кажется, записано в старых морских книгах о правилах вынужденного этикета во время непредвиденных встреч такого рода. Я завидовал легкости, с какой рыбина скользила в глубине: похожа она на умную, сильную машину. Ни одно творение рук человеческих с ней не сравнится.
Я включил компьютер, чтобы он светился и мигал, и вытянул руку. Акула шла прямо на меня. Нас разделяли десять метров, не больше. Это был ее последний заход. Я догадался, понял: движения противника были смелы и решительны, все сомнения, если только их можно приписать этой чудо-машине, отброшены. Ее механический мозг точно рассчитал траекторию.
И тогда я увидел неожиданное зрелище.
Из прозрачной воды, светло-серой, пронизанной желтоватым светом, из самых глубин к нам наверх поднималась гигантская белая глыба. Какое-то бесформенное тело.
Я почувствовал движение воды, ее упругое давление. В трех метрах от меня акула отвернула, испугалась. И тут же из воды выпрыгнула льдина, настоящий айсберг. С нее стекали шумные струи, она матово отражала свет неба, края ее опускались круто вниз, и отвесная стена льда казалась бесконечной, уходившей до самого дна.
Я перестал понимать происходящее. Махнул на все рукой и полез на этот айсберг, выбивая углубления моим компьютером.
Там, наверху, было прохладно, но заметно суше. Никогда раньше я не увлекался альпинизмом, зато хорошо понимал теперь чувства настоящих спортсменов; нелегко им в пути, но как здорово растянуться где-нибудь в укромном уголке, на ледовой вершине и после всех треволнений лениво созерцать окрестности, затянутые легким туманом.
…Надо мной в сторону берега пролетела стая крылатых киберов.
На айсберг опустился эль, подобрал меня и, замерзшего, невеселого, высадил в парке перед старинным дворцом. Ночью комната, куда меня определили, наполнилась теплом, синими потрескивающими искрами, и я понял: меня лечили во сне.
Утром мне стало лучше, но руки и ноги были как деревянные, для полного здоровья чего-то не хватало. Оправдались опасения: меня решили задержать здесь, в этом вместилище гармонии и древней, полузабытой красоты. За мной наблюдали, словно я впал в детство. Несколько дней благородного безделья были обеспечены: мне не разрешали работать. На третий день стало тоскливо, и я стал жаловаться. Наблюдение за мной усилилось. Я попался, как школьник, при попытке к бегству.
Если бы можно было поселиться где-нибудь в лесной избе, в одиноком доме, куда идешь-идешь и конца не видно дороге! Забрести туда и потрогать руками бревенчатый, высушенный солнцем сруб, а потом войти.
А здесь, у стекла большого зала, как в раме, красовались ослепительные облака и море. «Ну что тебе надо? — подумал я. — Как жить-то будешь?» Какое-то чувство обыденности и безысходности охватило меня, и я подумал, что тысячу раз уже спрашивал себя о том же, а мимо молча и быстро летели дни и годы. Другое «я» заставляло меня мучиться от бессонницы под южными звездами, вдыхать ночные запахи, и думать, и мучиться — это «я» было равнодушно к ясным линиям солнечной живописи.
Можно ли представить в этом зале прощание князя Андрея Болконского с маленькой княжной? И как бы прозвучали эти два запомнившихся слова: «Андрэ, уже?» — здесь, среди этого великолепия, в пространстве, очерченном высокими плоскостями стен и квадратом матового потолка? Здесь — у сказочного берега, в те далекие времена казавшегося наверняка недостижимым. Или несуществующим. Как прозвучал бы этот простой вопрос на французском? Из большого старинного романа, населенного сотнями почти живых людей?
Нет. Здесь мог бы быть бал — праздник для тех, кто вроде быстроглазой Наташи Ростовой впервые попал бы сюда. Здесь могли бы шуршать нарядные платья, благоухать шелка, сиять глаза молодых и скользить по обнаженным плечам колючие взгляды стариков.