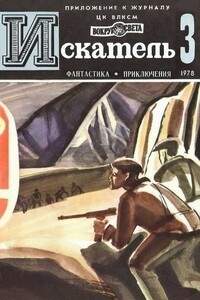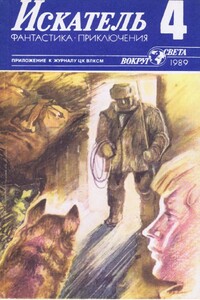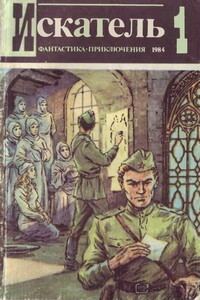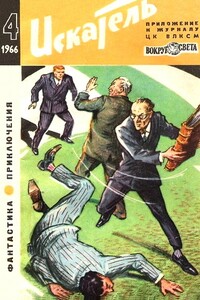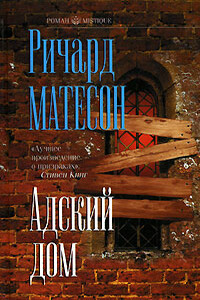3 0
С двумя парашютами — на груди и на спине — Гаджи поднимался в самолет. Тот дрожал от рыка двигателей, уже доведенных до форсажа. Лопасти винтов превратились в прозрачные блюдечки, сверкающие в свете прожектора.
Летчик закрыл дверь машины и прошел в свою кабину. Теперь в салоне оставались только Гаджи и мордастый инструктор, которому было поручено сбросить парашютиста за линией фронта.
Они сидели на железных скамьях по бортам самолета и рассматривали друг друга. Внизу заухали зенитки: самолет, видимо, перелетал линию фронта. Зенитчики били наугад — разглядеть самолет в кромешной темноте ночи было невозможно. И все же по правому борту совсем невдалеке возникли белые облачка разрывов. Сопровождающий явно нервничал, а Гаджи даже не взглянул в окно.
Штурман считал что-то на листе бумаги. Потом, подвигав стержень линейки, поставил на карте точку и вышел в салон:
— Через пять минут сброс. Готовься.
Он юркнул обратно в кабину.
— Чего грустишь, скотина? — спросил сопровождающий. Он не ждал ответа, говорил — очевидно, не первый раз — по давно ему известной инструкции. — Сейчас я дам тебе коленом под зад, и ты полетишь вниз. Не забудь, что там не очень любят таких. Не рассчитывай на восторженный прием, если тебе взбредет в голову пойти с повинной. У энкавэдэ есть как раз лишняя пуля… для тебя… Дырочка во лбу бывает маленькая-маленькая. У тебя остался один бог — полковник. Работай. Иначе — собаке собачья смерть, как говорят у вас в России.
Он посмотрел на часы и распахнул дверцу.
31
Все было знакомо с детства, но теперь казалось новым, непонятным, чужим. Он шел, страшась улиц, домов, встреч, собственной тени, которая возникла на тротуаре, едва он повернул за угол и солнце оказалось за спиной.
Разные чувства бередили душу, и, пожалуй, больше всего ему хотелось без оглядки мчаться к дому и там, схватив на руки жену и сына, ринуться с ними прочь от всего, что определяло теперь его место в жизни. Но тут он вспомнил Седого и Вильке, и топор, и ненависть пленных, и собственную клятву уничтожить врага. Вспомнил потому, что на другом тротуаре, вдалеке, увидел троих раненых в шинелишках, из-под которых виднелись белые кальсоны и клеенчатые тапочки, надетые на голые ноги. Посредине, хромая, шел… Седой.
Гаджи кинулся к нему, но остановился, будто споткнувшись. Нет! Седой никогда не пойдет ему больше навстречу. Нет! Седой никогда никому не объяснит, почему он с Вильке…
Гаджи долго стоял в переулке, потом зашагал к цирку, не замечая, что, передавая друг другу, за ним внимательно наблюдают сотрудники генерала Моисеева.
32
Вец стоял у четвертого столба возле здания цирка. Он внимательно рассматривал прохожих.
Гаджи он узнал безошибочно.
Подошел к столбу, поставил ногу на какой-то камень, так вроде удобнее завязывать шнурок ботинка, сказал, будто самому себе.
— Какое фиолетовое небо!
Гаджи вздрогнул, но не подал виду, что встреча для него неожиданна, хотя представлял Веца совсем другим. Ответил нарочито спокойно:
— Как глаза Дульцинеи.
Вец все еще возился со шнурком.
— Первый переулок направо, потом налево — там догоню.
Гаджи пошел не торопясь, Вец посмотрел ему вслед, а сам направился в другую сторону.
33
Проходными дворами — из одного в другой — они шли, пока опять не вернулись к цирку, только к его тыльной стороне.
Там стояли клетки со львами и слоном и в беспорядке громоздились артистические атрибуты.
По узенькой грязноватой лестнице Вец привел Гаджи в свою комнатушку.
— Можешь садиться. — Вец тщательно запер дверь и опустил одеяло, которое служило занавеской.
— Как добрался? — он хлопнул Гаджи по плечу. — Спирта хочешь?
Гаджи пожал плечами. Пить ему не хотелось, но отказываться было, наверное, неразумно.
— Налей.
Вец достал бутылку и миску с зелеными, сморщенными помидорами.
— Разводишь?
— Как когда.
Они выпили по полстакана. Гаджи морщился.
— Непьющий? — спросил Вец. — Это хорошо. В нашем деле пить нельзя. Слушай. Сегодня пойдешь домой. Скажешь: приехал из госпиталя. С товарищем. Фамилия у него — Тихий. Попросишь дядю Аббаса взять его на работу. Ясно? В случае чего умоляй, валяйся в ногах, грози, что умрешь, — делай что хочешь. Парень должен там работать, иначе тебе не жить.